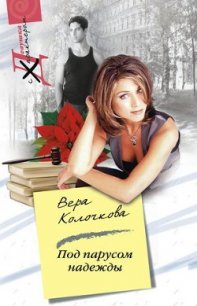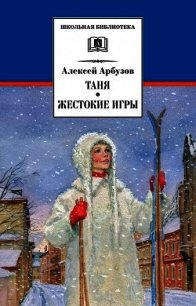Сестра милосердия - Колочкова Вера Александровна (читаем бесплатно книги полностью .TXT) 📗
Постелив себе постель, она улеглась, свернулась калачиком, натянула одеяло на голову. И в самом деле заснула крепким молодым сном, каким спится после долгих тяжелых слез, – здоровый организм свое право на отдых все равно стребует, горю не отдаст. А Танин организм был исключительно здоровым. В компенсацию за деревенскую неуклюжесть, наверное. А может, и за другое что. Потому как неуклюжесть эта – и не показатель вовсе. Сегодня она есть, а завтра, глядишь, уже и в грациозность сексапильную взяла да и трансформировалась незаметно. А что? Всякое в жизни случается…
Так проспала она почти до обеда следующего дня, как сама для себя и постановила накануне. Правда, просыпалась несколько раз за ночь, словно кто ее в бок толкал, но тут же усилием воли запихивала себя обратно в спасительное забытье. Вот же оказия – приехать в другую страну, чтобы спать себя заставлять…
Открыв глаза, она полежала еще немного, закинув руки за голову и разглядывая белые облака за окном. Солнце палило вовсю – хорошо там, наверное, на свободе. Ну и ладно. Правду говорят умные люди – хорошо только там, где нас нет. А к вечеру ее здесь уже точно не будет. У нее, слава богу, свой дом есть. Пусть и хуже здешнего, зато там никто не обидит. И бог с ней, с вашей заграницей. Отю, конечно, жалко, но что теперь поделаешь…
Память тут же подсунула ей на глаза бледное заплаканное его личико, и вновь затряслось все внутри от бессильной жалости, и горячие слезы не заставили себя ждать – потекли по вискам, закапали на подушку цвета теплых деревенских сливок. Она бы и снова дала им волю, как вчера, да в дверь снова настойчиво постучали, и Адин голос прозвучал с той стороны приказом:
– Татьяна, открой! Слышишь? Иди хоть пообедай, хватит уже рыдать! Открой, Тань, поговорить надо! Ну, пожалуйста…
Таня нехотя сползла с дивана, утерла ладонями лицо, открыла перед Адой дверь. Молча уставилась на нее исподлобья.
– Как ты тут? Живая? – улыбнулась ей Ада с порога нарочито дружелюбно, будто расстались они с вечера совершеннейшими подругами, будто и не было между ними никакой ссоры. – Ну и горазда же ты дрыхнуть, девушка! Вся рожа со сна опухла! Глянь на себя в зеркало-то, глянь! Давай умывайся да пойдем пообедаем. Я всяких местных вкусностей для тебя заказала, Сережка стол в гостиной накрыл… Ты лягушек французских ела когда-нибудь?
– Нет, не ела, – буркнула сердито Таня, отворачивая от нее лицо. – Спасибо, я ничего не хочу. Я уж дома наемся как-нибудь, пирогов да каши, да кислых щей. А вашего мне ничего не надо, спасибочки…
– Ну ладно, что ж… – покладисто вздохнула Ада, грустно улыбнувшись. – Оно и понятно… И я б на твоем месте так себя вела… Ладно, тебе сюда сейчас Сергей принесет перекусить чего-нибудь, а то умрешь с голоду, пока до своих пирогов доберешься.
– Не умру. Скажите лучше, когда мне уезжать надо? В котором часу выходить? И билет с паспортом отдайте, а то забуду еще.
– Не забудешь. В семь часов спустишься вниз, я тебе все отдам. Сергей тебя в аэропорт отвезет, проводит там, покажет-расскажет все. Слушай, а он не приставал к тебе, часом, вчера? Не ты ли ему фингал под глазом нарисовала?
– Нет, это не я. Это он на вашу тумбочку налетел случайно.
– Что, прямо глазом налетел?
– А что, можно и глазом, если умеючи. Если приноровиться, конечно. Да ладно, ерунда все это, больно он мне нужен, ваш Сергей… Вы мне лучше скажите – Лена вам не звонила? Как там Отя… то есть Матвей…
– Нет, не звонила она мне, – грустно вздохнула Ада. – Она вообще редко меня звонками балует. Ну, если хочешь, давай я ее сама наберу… Хотя нет, не ответит она. Точно не ответит, зараза такая. Вот всю жизнь только и делает, что мстит мне за что-то. А спроси ее – за что, и не объяснит толком… Тань, а может, все-таки посидим да пообедаем? Давай, а? Винца хорошего выпьем… Я там нарядов тебе накупила всяких, примеришь… Знаешь, как от плохого настроения помогает? Повертишься перед зеркалом, глядишь, и на душе полегчает…
– Нет. Не могу я, Ада. Ни пить, ни есть не могу. Внутри будто железяка засела холодная, на сердце тяжело давит. Простите меня, я лучше здесь посижу. Мне одной хочется побыть.
– Ну ладно, что ж…
– Я к семи буду готова, спущусь.
– Ага, давай…
Шаркающей старушечьей, как-то вмиг образовавшейся походкой Ада направилась к двери, уже открыла ее и обернулась, улыбнулась жалко, пожав коротко плечами. Дыхание у Тани вдруг пресеклось, словно исходящая от старой женщины виноватость хлестнула по глазам и по сердцу, застряла твердым комком в горле. Сглотнув его и снова набрав в грудь воздуху, она сделала шаг в сторону двери, проговорила торопливо:
– Постойте… Постойте, Ада… Я… Ладно, я сейчас прямо спущусь… И правда, давайте посидим, что ли… Может, и не увидимся уже никогда… Я сейчас, умоюсь только…
Ада медленно подняла голову и стала всматриваться в ее в лицо, пристально и внимательно, будто видела Таню впервые. Потом, сморгнув набежавшую на глаза мутную слезную пелену и так ничего больше и не сказав, а только кивнув – хорошо, мол, – шагнула за порог, тихо прикрыла за собой дверь. Таня улыбнулась ей вслед грустно и медленно поплелась в ванную, дивясь на свой очередной сердечный порыв – и в самом деле, чем старуха-то перед ней провинилась? Это еще хорошо, что сердце иногда так вот выручает, забегая вперед головы. А что, может, оно и на самом деле намного умнее головы, сердце человеческое? А мы об этом даже и не догадываемся?
За столом Таня, преодолев отвращение и чтоб не обидеть хозяйку, героически отведала всяких французских блюд – и лягушатины, и сыра вонючего, и вина кислого-прекислого. Лягушечье мясо сильно напоминало обыкновенное цыплячье, и сыр был бы ничего, вкусным даже, если б не вонял так откровенно помойкой. Сергей сидел напротив нее, гордый и надменный, и даже в глаза не смотрел. И молчал весь обед. Ада же, наоборот, говорила без умолку, будто прорвалась в ней некая словесная плотина, и Таня затем только сюда и ехала, чтоб выслушать и принять в себя затвердевшую с годами боль-тоску по незадавшемуся ее материнству. Все о себе рассказала – и о трудностях своей смолоду безмужней жизни, и о проклятой российской бедности, в которую эта жизнь ее «засунула», и о том рассказала, каково ей было одной Костика с Леной растить… А потом еще и в философские сопливые рассуждения кинулась, что было совсем характеру ее вздорному несвойственно. Таня смотрела на нее и не узнавала – вроде и не старуха злая да циничная перед ней сидит, а обыкновенная бабулька, и голосок ее звучит так странно, так высоко, жалостливо и дребезжаще…
– … Ты знаешь, я все хотела им не только за мать быть, но и за отца тоже… Где-то и перегибала палку, конечно. Натура у меня властная по природе, и все мне казалось, что я лучше знаю, как им жить надо. Это сейчас я понимаю, что детей своих на корню чуть не зарубила. Даже когда Костик от меня сбежал, и тогда не одумалась.
Все воевала чего-то, махала перед его носом материнским своим правом, даже палки в колеса пыталась вставлять, когда он в гору пошел… Вот же дура была – вспомнить тошно. А он меня очень любил, мой Костик. Он и не перечил мне никогда, а только ловко в сторону уходил да дело свое делал. И вот эту всю жизнь французскую тоже он нам с Ленкой сотворил. И не упрекнул никогда ни в чем… – Она всхлипнула протяжно, ткнулась лицом в крахмальную салфетку, но тут же снова подняла на Таню глаза, продолжила торопливо: – А Ленка, та наоборот. Чем дальше, тем большей на меня обидой исходит. Она и на Костика раньше все время злилась, когда он обо мне заботился, и упрекала его, что он нам поровну денег дает. Он мне не рассказывал, конечно, но я знаю… Он-то понимал, что я просто по природе властная такая, что я им обоим только добра хотела, а не зла вовсе. А деньги Костины вконец Ленку испортили. Все ей мало было! По дочери моей вообще, знаешь ли, законы человеческой эволюции изучать можно. В смысле – эволюции денежной.
– Как это – денежной? – удивленно вскинула на нее глаза Таня. – А что, такая разве бывает?