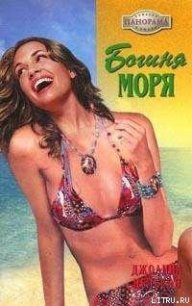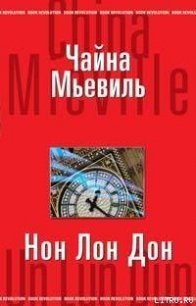Все еще здесь - Грант Линда (книги серии онлайн txt) 📗
Маленькой я часто просыпалась по ночам от звучных, отдающихся эхом гудков океанских лайнеров: их огни превращали речную воду в расплавленное золото, их трубы выводили мелодию нашего города. Мерси впадает в Ливерпульский залив, залив ведет в Ирландское море, море открывается в Атлантический океан, а океан омывает землю от края и до края. И старые евреи из дома престарелых, и их ирландские сиделки («Ангелы? Да, как же! Чертовы стервы ирландские!») — все пришли из-за моря. В нашем городе все приходит из-за моря. Ирландки вывозят старых евреев прогуляться по Оттерспулу, и старики смотрят на реку и слышат корабельные сирены, предупредительные сигналы, прорезающие туман, и бодрое тарахтение буксиров и лоцманских суденышек. А сиделки говорят: «Это вам кажется», — потому что корабли давно уже не поднимаются вверх по реке, а останавливаются в порту в Сифорте.
Старики знают: им недолго осталось любоваться рекой. Мысли их устремляются за море, в неведомые края. Кажется чудом, что они все еще здесь. Чудо, что сам город все еще здесь. Кому он теперь нужен? В ту ночь моя мать умирала на берегах Мерси, в заброшенном городе, в самом тусклом и унылом месте во всей Англии — а может, и на всем белом свете. Печально. Но это лишь начало истории: сама история впереди. Я вернулась домой, чтобы встретиться со смертью — а встретила любовь. Я — гордая, непокорная, язвительная дочь Ливерпуля, дочь Саула и Лотты Ребик.
Незадолго до этого, всего какой-нибудь месяц назад, я вернулась из Индии. Ездила не для того, чтобы обрести просветление — боже упаси: сидеть у ног гуру и размышлять о бренности всего сущего — это не по мне. Просветленности и отрешенности мне и дома, во Франции, хватало. Я отправилась туда в составе экспедиции, чья задача была — оценить возможность реставрации и сохранения синагоги в Кохине. Да, как ни удивительно, и в Индии есть евреи. Сами они считают себя потомками моряков царя Соломона, потерпевших кораблекрушение еще в библейские времена; однако на самом деле, скорее всего, попали в Индию из Испании или Португалии во времена великого изгнания, быть может, в тот же год, когда Колумб открыл Америку. Впрочем, бог их знает, откуда они взялись и как попали сюда: для меня важно лишь то, что в шестнадцатом веке здесь была возведена синагога, куда и по сей день приходят женщины в сари, и поют древние песни моего народа, и бормочут те же молитвы, что читали мой отец и моя мать.
То, чем я занимаюсь, — мицва, доброе дело. Я езжу по всему миру и посещаю старые здания — в Фесе, Венгрии, Польше, во Франции и Черногории. Осматриваю синагоги, превращенные в склады, зернохранилища, кинотеатры, универмаги, в стойла для скота. Архитекторы и инженеры, входящие в нашу команду, высказывают свое мнение о том, подлежит ли здание восстановлению, и я пишу доклад, который отправляется к богатым евреям по всему миру — рассказывает им о том, что за община была на этом месте, много ли от нее осталось, что потеряно навеки, а что еще можно восстановить. Я говорю: мы можем воскресить историю, можем поднять ее из праха. Смотрите. Вот как это выглядит сейчас. Вот как это выглядело в былые времена. Хотите, чтобы община вернулась к жизни? Дайте денег. Доклады у меня получаются очень, очень убедительные. Я говорю: наш мир полон зла. Можете поверить, уж я-то знаю. Рак, СПИД, голод, войны, нелегальная оккупация, беженцы, заживо гниющие в лагерях, дискриминация, пытки, преступления против женщин и детей — изнасилования, инцест, детская проституция, насилие в быту — и против животных, целые виды которых уже безвозвратно исчезли с лица земли. Все, что происходит в мире, ужасно. В свое время я изучала жестокость и садизм, я видела фотографии, которые не печатают в газетах — они хранятся подшитыми в полицейских досье, — и после этих фотографий лежала ночами, и не могла сомкнуть глаз, и, как Иаков, боровшийся с ангелом, боролась с мыслями о нашей природе, о том, что, быть может, ум человеческий приговорен ко злу, что зло записано в самой структуре наших клеток. Но в моем проекте, заключала я, нет зла — мое дело никому не принесет боли, и я верю в него всем сердцем.
Я шла по улице в Кочине, под безжалостным индийским солнцем, одурманенная запахами перца, тамаринда, корицы, чеснока, муската, кардамона, имбиря. Вошла в синагогу, встала на теплые плитки пола, истоптанные и стертые сотнями ног. Подняла глаза на ветвистые латунные семисвечники. В мозгу словно колокола зазвенели, разворачивая свиток древних слов: «ШмаЙисраэлъ, адонаи элохайну, адонаи эхад». Слушай, Израиль, Господь твой Бог, Господь Единый. Крохотная горстка людей повторяет эти слова изо дня в день, просыпаясь под палящим солнцем чужой земли. Слушай, Израиль… а Бог отвечает… что занесло вас сюда?
Я выросла на самой западной кромке Европы — уже почти там, почти в Америке. Однако я все еще здесь, в моем городе. И немногие уцелевшие синагоги каким-то чудом все еще стоят на своих местах. Как и евреи из Кочина — они тоже все еще здесь.
В тот день, когда позвонил Сэм и сказал, что мама умирает, я вела подготовительную работу к следующему проекту. В отдаленной деревушке в Румынии найдена синагога с настенными росписями: с конца войны она использовалась как склад. Понимаю, что число заброшенных синагог в Европе конечно много, но всякий раз, когда в поле моего зрения появляется еще одна, я испытываю изумление и восторг, что-то сродни благоговению. Вот и еще одна выжила — как ей удалось? Я нашла деревушку на карте: она всего в нескольких милях от бывшей советской границы, к востоку от Карпат, в полудне пути от ближайшего города. Сердце у меня вздрогнуло, а потом сильно забилось, когда совсем рядом я увидела знакомое название. Кишинев! Вот с этого места на карте все и началось. Два погрома — массовые убийства, изнасилования, страшные зверства, — и тысячи евреев (среди них — и родители моего отца) снимаются с насиженных мест и бросаются на запад. И однако в этих местах, совсем рядом с Кишиневом, еще сохранилась еврейская община. Кто же уезжает, а кто остается? Кто из них делает правильный выбор, а кто — и когда — понимает, что совершил ошибку? Как может человек после семидесяти лет коммунистического правления, когда сама личность была под запретом, все еще оставаться евреем?
— Когда-то здесь были евреи, — сказал мне один человек в словацкой деревне.
— Куда же они ушли? — спросила я.
— Испарились, — ответил он. — Как роса на полях и на спинах моих овец.
— Но роса возвращается каждое утро, — ответила я резко (через переводчицу — привезенную из Праги девчушку с розовой помадой на губах и тяжелым золотым крестом на шее).
— Верно, — согласился он, — но мои поля и мои овцы всегда здесь, они не уходят и не возвращаются. Не важно, кто нами правит, не важно, есть ли нам куда идти — мы, я и моя семья, остаемся здесь.
И сейчас, ожидая маминой смерти, я всем сердцем желала вернуться в Румынию, где я знаю, кто я такая и зачем живу. Увлеченность работой помогает смириться с одиночеством. Одинокая женщина в сорок девять лет — это, сами понимаете, уже не смешно. Начинаешь всерьез опасаться, что любовь и желание для тебя навсегда остались в прошлом. Конечно, это не смертельно, но, чтобы с этим примириться, нужна большая внутренняя сила.
Мне было страшно тяжело без секса. Ни мужа, ни друга, ни любовника — вообще никого и ничего. Неудовлетворенность жгла и раздирала меня изнутри. На время я вообразила, что смогу преодолеть желание, обретя внутренний мир, победить сексуальное влечение силой воли. Тогда-то и купила деревенский домик неподалеку от Бержерака, на юге Франции. Там я приучала себя к молчанию, вела постоянную борьбу с желанием вскочить и подбежать к окну, заслышав шум проезжающего автомобиля. Часами я лежала на диване и прислушивалась к тиканью часов в тишине: напряжение сдавливало грудь, и громом отдавались в ушах мягкие шаги кошачьих лапок. Я напрягала волю, заставляя себя не заснуть от скуки, насильно вгоняла себя в транс. Но медитация продолжалась лишь несколько минут (а порой — и несколько секунд) и сменялась тяжелой дремотой, в которой мне виделись города, утопающие в жарком мареве, переполненные улицы, небоскребы со стремительными стеклянными лифтами. Когда я выходила на улицу, надо мной простиралось высокое, выцветшее, молчаливое небо. Чуть шелестела трава. Земля хранила свои тайны.