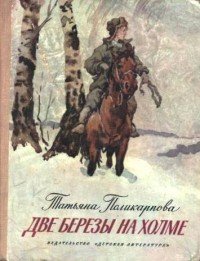Женщины в лесу - Поликарпова Татьяна (лучшие бесплатные книги .txt) 📗
Вот теперь я понимаю, какую штуку играет с нами молодость и сила: кажется, все перенесешь, все можешь и главное решение у тебя впереди. И все будет в конце-то концов по-твоему… А уходит сила и телесная и душевная, и вдруг захочется покоя и понимания с человеком, тебе подобным, — а уж добиваться-то и нечем. Нечем! Нет уверенности, нет силы. Нет отваги… И жизнь швыряет тебя под ноги той, с которой ты только что хотел гордо расстаться…
Я хотел этого. Потому что в один почти весенний день встретил женщину, светлую лицом…
Смешно, когда теперь, в трезвом моем состоянии, представлю себе, что у нее, у той женщины, вовсе другое было на душе, а может, и другой — оттого и светилась она лицом. И вовсе я ей не показался ей подобным, как она увиделась мне подобной и моей спасительницей от злой жены. (Так что, может, к лучшему, кстати, что меня разбил радикулит и мне теперь есть чем оправдаться.)
Нас познакомила моя старая знакомая, с которой мы начинали работать вместе на заре туманной юности. Столкнулся я с ними на улице, и Галка, представив меня, возьми да и скажи: «Вот, Нюся, с этим Петей Томиным мы в музыкалке, как и ты, начинали». И эта Нюся так и засветилась: «Правда?!» — с таким восторгом воскликнула, будто мы в другой жизни, где-нибудь на альфа Центавра были родней.
— А вы тоже филолог? — спрашиваю и чувствую, как расплываюсь в глупой улыбке.
— Нет! — сказали мои дамы в один голос. Засмеялись.
— Я музыкантша, — пояснила Нюся, — я в пединституте преподаю. Но музыкальная школа… Это же сама музыка!
Ну, товарищи дорогие, ну, если б вам вот так довелось: ведь с первых слов она просто так, не думая, не гадая, проникла в мою тайну, о которой даже Галка, которая со мной в музыкалке работала, не знала! Я увлекся там музыкой, композицией. Сидел в классах на занятиях, обзавелся соответствующей литературой, товарищей музыкантов выпытывал. Какие-то азы ухватил, слух же у меня абсолютный. Увлекся. Сочинял. Песни. Романсы. Просто какие-то фантазии: музыкальные образы, как я их про себя называл. Жил этой тайной. Никому ее не доверял.
И вот новорожденная знакомая тебе в лицо: «Музыкальная школа — это ж сама музыка!»
Я был захвачен врасплох. Обезоружен. Настолько, что так и не успел ее спросить, почему для нее-то музыкалка — сама музыка. Господи, близкая мне душа! Вот что колотилось во мне тогда.
Оказалось, нам по пути на автобусе. И, оставшись с ней вдвоем, с места в карьер стал ей говорить, какая она удивительная. Что у нее лицо светится. Что я воспринимаю ее как знак… Как знак… Я не мог найтись, чего — знак, и она мне подсказала: «Судьбы!» И засмеялась. С большим лукавством засмеялась. Это ее лукавство меня подхлестнуло. Почувствовал себя вовсе не на пятьдесят, а на тридцать. А что? Волос седых у меня нет почти, хоть волосы темные, такие, говорят, быстро седеют. У меня ж виски побелели, а это, согласитесь, даже украшает. И мои глаза, темные, всегда нравились женщинам. И рост у меня подходящий: не высокий, не низкий — самый средний. Нет, никогда я за свою внешность не испытывал неловкости. Равно как и за одежду: школьный учитель, привык к аккуратности. Рубашка всегда свежая, всегда при галстуке.
В автобусе было тесно, мы близко стояли. Я сквозь сияние ее и свою увлеченность все ж разглядел и седину в волосах, и морщинки у глаз, и что шея уже тронута временем, хоть и немного… А все равно, ничуть меня это не охладило, а, напротив, придало сил. Думалось, лет на шесть-семь всего меня помоложе. Не то что я в ту самую минуту решил свататься и с женой разводиться, нет, просто так бодрости мне придал факт ее возраста.
— Как чудесно зовут вас, Нюся, как нежно, — говорю опять.
— Да уж, — отзывается, — нежности хоть отбавляй.
И послышалась мне горчинка в ее тоне. Почувствовал, что неспроста. Понял, что не очень-то ей тепло. И такая жалость сердце мне схватила! Вот взял бы в охапку и утащил… Только так подумал, услышал голос своей жены: «Куда потащишь? Подумать хоть раз можешь головой своей?» И еще сильней сжало мне сердце…
— Отчего это, Нюся, — говорю ей, — я сразу со всей своей глупой, наверное, башкой и дурацким сердцем поверил в вас? Неужели только потому, что у вас такое сияющее лицо?
Теперь говорю себе: ты и в жену свою поверил с ходу. Но нет, неправда! В жену я не поверил, я просто сильно ее желал. Тело ее ленивое желал. Ожидал с тоской и мукой телесной, как пламя в рыжих ее глазах охватит меня… Чего мне было тогда верить в кого-то… Я в себя тогда верил.
А Нюся… Хм… Потом она очень скоро стала раздражительной. Она и тогда, в автобусе, вдруг нахмурилась и сказала:
— Знаете, Петя, я ужасно не люблю, когда люди, хоть и в шутку, унижают себя. Зачем вы говорите: глупая башка? Дурацкое сердце? Хотя я, конечно, польщена, что вы в меня сразу поверили… Правда, не знаю, как понимать эту вашу веру.
— Все понял! — с готовностью говорю ей. — А насчет веры… Мне кажется, Нюся, вам можно все-все про себя сказать, и вы поймете.
А она опять рассмеялась.
— Опрометчиво! — говорит.
А я все равно верю! Смеется очень уж хорошо. И я поехал ее провожать и в метро.
Тут уж меня совсем без узды понесло. Все рассказал. И как я устал от жизни. От непонимания близких. Как жалею, что приехал в этот большой город, оставив тот, где успешно работал раньше. Там было столько друзей… Город юности — это что-то да значит. А здесь я гол как сокол. Есть, конечно, и здесь знакомые — из бывших друзей. Почти все стали здесь шишками на ровном месте. Они, конечно, и примут, даже и домой позовут, и поговорят, и виду не покажут, что шишки, а все равно вроде милость тебе оказывают… Это я так ощущаю. Были когда-то ребята… А! Жизнь разъедает… Вот и я… За что только ни брался. Нет чтобы выбрать дело — и в одну точку. Все, чем богат, вложить. А я… И плоты гонял…
— О! — сказала тут Нюся и пристальней взглянула.
— Да, было… И золотишко переправлял из мест его благородного рождения…
— Да ну?! — удивилась до испуга Нюся. — И не попались?!
— Нет, не попался. Но во второй раз уж не отважился.
— A-а! Ну это правильно! — одобрила и добавила: — Но все же это факт! Биографии!
— Потом уж, как раз после этого «рыска», поступил в институт. И то… Цыганская кровь покоя не давала…
— О, при всем еще и кровь цыганская?
— А как же! Бабка говорила, что ее дед — из цыган, кантонистов.
— А, — говорит, — бабкин дед. Далековато…
Я знал, что на цыгана не похож, только разве вот цвет глаз, но жила во мне какая-то заноза, гоняла с места на место. Я и после института срывался: с геологами ходил. С рыбаками на СРТ. После уж — музыкальная… Осел…
— Ну у вас биография — позавидуешь! Вам бы в писатели, — говорит.
— Ах, — отвечаю ей, — вы сами не знаете, как угадали… Знаю, что никому не надо, а пишу… Пишу, Нюся! Нет, не стихи, не прозу — музыку сочиняю. Песни. Романсы. И пьесы…
— А сонаты? Симфонии?
— Вы смеетесь, Нюся. А это моя жизнь, мое счастье. За что я и проклят всеми, и гонят меня в шею…
Вижу, она так поежилась зябко, плечами шевельнула, нахмурилась.
— Что вы? — спрашиваю. — Вам неприятно?
— Жалко, — говорит. — Вас жалко…
— Спасибо, Нюсенька!
Накрыл я ее руку своей, но она свою тут же отняла, спокойно так вытянула, не резко. Но и без колебания. И глянула в упор, как отодвинула.
Наверное, в тот первый раз я где-то допустил оплошность. Скорей всего, с этой рукой. Говорил о душе, а сам — за ручку. Но ведь и всегда-то так. Это ж душевное движение. Человеческое. Естественное…
Нюся напомнила мне:
— Так вы о музыке… Можно будет послушать?
— У меня с собой, — говорю. Вынул несколько листов. Она тут же пробежала глазами.
— Похоже, — говорит, — на музыку… Только похоже на чью-то… Это хуже.
— Так ведь ничто из ничего не создается… Мелодии порхают… На слуху…
— Да, — говорит, — создать что-то из ничего — невозможно. Создают из себя. Из жизни. А порхает много чего.
Ах ты боже мой! Ведь права! Как права! И воскликнул я от самого сердца: