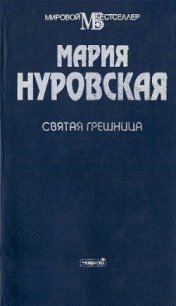Единственное число любви - Барыкова Мария (книги без регистрации бесплатно полностью TXT, FB2) 📗
И я надеялась, что это были Алешины следы.
МАРТОВСКИЙ ЛЕД
Мартовский лед на Карповке шуршал с тем обещающим позваниванием, какое всегда слышится в разворачиваемой шоколадной фольге, особенно если разворачиваешь ее там, где это запрещено с детства. Ксения, в чьей семье трогательно соблюдались петербургские традиции, хорошо помнила ту подслащенную сознанием своего превосходства зависть, с которой она в полумраке Кировского и МалеГОТа [11] смотрела на сверстников, поедающих во время действия шоколад. И в этом тонком, с нежной металлической кислинкой, звуке для нее навсегда осталось ощущение соблазна — ощущение, впоследствии не раз подтвержденное приключениями юности.
И сейчас, держа Митю под руку и стараясь ступать вровень с его неторопливыми, но широкими шагами, она с радостью отметила это внезапно пришедшее ей на ум сравнение. Соблазнить Митю ей в общем-то очень хотелось. Не хотелось только думать, зачем.
Может быть, ей слишком запали в память произнесенные несколько лет назад слова ее бывшего мужа. Тогда она совершенно случайно заскочила к Мите в его ДК пересидеть полчаса перед сеансом, но, увлеченная разговором и бессознательной игрой своего маленького красного ботинка, пропустила фильм и пришла домой, опоздав едва ли не на два часа. И муж, всегда вполне лояльно относившийся к ее кокетству, а Митю знавший с незапамятных студенческих времен, неожиданно нахмурился и сказал почти зло: «Ну уж Митю я тебе не отдам». Польщенная, Ксения посмеялась и тут же забыла и о разговоре в накуренной регуляторной, и о нелепых словах мужа.
А может быть, в свое время она слишком старательно пыталась избавиться от неприятного ощущения, которое испытала тоже в некоей связи с Митей. Несколько лет назад, в пору тотального дефицита, к их знакомым приехали австрийцы и привезли груды одежды для продажи. Покупатели, малознакомые и полузнакомые, текли рекой, и Ксении, свысока относившейся к подобного рода вещам, все же трудно было не соблазниться. Она стояла перед зеркалом, стягивая примеренную простенькую футболочку, и ее маленькие, круглые, загорелые уже в июне груди торчали по-девчоночьи дерзко и задорно. Но, сняв футболку, она почувствовала на себе холодный, почти не снисходящий до презрения, взгляд высокой, совершенно тициановской женщины — та держала в руках блузу, стоившую немыслимых денег. Дернув худыми плечами, Ксения быстро вышла из комнаты и на свой вопрос, кто это, с удивлением услышала веселый голос хозяйки: «Как?! Разве вы не знакомы? Это же Наталья, Митькина распрекрасная жена!» Все это почему-то было очень неприятно, и против обыкновения она даже не поделилась своими ощущениями ни с кем. А заноза сидела долго.
И час назад, когда в ее кабинете раздался звонок, и Митя, с которым она последний раз виделась бог знает когда, еще до развода с последним мужем, предложил пойти погулять — поскольку на улице уже настоящая весна, — эти два противоположных ощущения, победы и унижения, мгновенно всплыли у нее в памяти. И вот теперь они уже второй час шагали по петляющим набережным, болтая о ерунде, а разговор постепенно принимал ту форму, которую Ксения любила больше всего: за обыденными словами скрывался не только второй смысл, а благодаря наклону головы или повороту плеч, на их дне мерцал и манил третий, возможно, малопонятный ей самой, но тем еще более манящий. Она не прилагала для этого никаких усилий, не придумывала фраз — все происходило само собой, но потаенное вино успеха уже начинало тайно бродить в душе, и тогда Ксения позволила себе просто идти рядом с высоким красивым сорокалетним мужчиной — ни о чем не задумываясь, ничего не добиваясь, почти откровенно любуясь его чуть потемневшими от ветра смуглыми скулами, тяжелой мужской лепки подбородком, чуть замедленными от сознания собственной силы движениями… но лишь в горячие, вишневые, почти без белков, глаза она смотреть не хотела.
Солнце прорывалось и все не могло прорваться сквозь кажущуюся на первый взгляд тонкой серую муть неба, и Ксения чувствовала, что это каким-то непостижимым образом играет ей на руку, придавая разговору ожидание и напряжение. Они в третий раз дошли до византийской громады храма, под сенью которого было еще сумрачней и еще сильнее пахло весной от сырых коричневых камней.
— Послушай, — улыбнулась вдруг она, слушая не слова, а его голос, говоривший ей больше и глубже, чем слова, — а ты помнишь… Нет, наверняка не помнишь, потому что не знаешь. — Он податливо наклонился ниже, и твердые поля шляпы коснулись ее растрепанных русых волос. — У одного расстрелянного поэта есть стихи о монгольской княжне… — «Господи, зачем я это говорю? Это слишком откровенно и слишком… жестоко. Но все равно уже… Все равно».
— И что же? — со своей всегдашней усмешкой под усами, но радостно-нежно спросил он.
— А то, Митенька, что никто почему-то их не знает. Никто. Я у всех… — Ксения удержалась, чтобы не сказать «своих возлюбленных», но вздохнула, — спрашиваю, и никто…
— Наверное, эта беда поправима, а? Словом, как только нахожу, я тебе звоню, согласна?
— Согласна. А теперь мне правда надо идти, в пять совещание, от которого не отвертишься, — почти механически солгала она, в ужасе от того, что все произошло и пути назад уже нет. И, почти ненавидя себя, весело добавила: — Мы с тобой столько не виделись, болтаем бог знает о чем, а я ведь даже не спросила, как дети? — У Мити было два мальчика, один совсем взрослый, а другой совсем маленький, и все знали, что он в них души не чает.
— Дети замечательные. — Он улыбнулся, но ничего больше рассказывать не стал.
Было бы неправдой сказать, что три последующих дня Ксения очень ждала его звонка. С одной стороны, тем самым безошибочным шестым чувством, которое никогда не подводило ее в отношениях с мужчинами, она уже знала, что безжалостное невидимое колесо завертелось, и время не играет теперь никакой роли, — а с другой, вопреки этому ощущению, все еще надеялась, что все закончится парой чашек кофе в ближайшем кафе. Она знала, что в кругу друзей за Митей прочно установилась репутация абсолютно разумного и спокойного человека и что в то хмельное мужское десятилетие от возраста заговорщиков до роковой черты поэтов, когда другие горели в страстях и творили неслыханные глупости, за ним не числилось ни одной явной любовной истории — и это при чуть тяжеловатой, но признаваемой всеми мужественной красоте!
Ксения не поленилась и нашла среди оставшихся у нее старых фотографий мужа ту, которую, увидев впервые, хотела сначала даже повесить на стенку в своем рабочем кабинете в качестве абстрактного изображения подлинной мужественности. Низко надвинутая на глаза широкополая итальянская шляпа не скрывала серьезных, по-мужски требовательных и требующих глаз, спокойный рот без капризов и обманов, ни тени нереализованности во всем крепко вырезанном, уверенном лице. Тогда, неодобрительно, но до конца выслушав ее восторги, муж убрал фотографию и вполне серьезно рассказал ей какую-то нелепую историю, но, кажется, вовсе не о Мите…
Пытаясь вспомнить этот разговор из тысячи других, Ксения поставила локти на широкий белый подоконник и рассеянно посмотрела в окно. Там рассыпанными жемчугами блестели мелкие лужи. Март, плавящий в золотом горниле снега и страсти, всегда был для нее самым пряным и пьяным месяцем: подземные токи земли, рвущиеся наружу, непобедимые и властные в своей еще неявленности, сводящие по ночам с ума звуки падающей с крыш воды и сулящий неведомое блоковский бубенец вдали за островами. Она ясно знала, что Митя не услышит этого бубенца — но отказаться, тем более после того, как во влажном сумраке монастырской стены она почти случайно коснулась горячего, покрытого тонким черным волосом запястья и оно ответило живым током, было почти невозможно. Ксения знала и то, что среди ее знакомых прочно утвердилось мнение о том, что она стерва, что большую часть своих романов она выстраивает, руководствуясь логикой, знанием мужчин и холодным расчетом, но это было совершенной неправдой: она сама пропадала в страстях без остатка, и вел ее лишь древний, как мир, инстинкт радостного наслаждения жизнью. Наслаждения, не отмеряемого ситуацией или временем, а льющегося свободным потоком, сметающего на своем пути жалкие человеческие преграды вроде общественного мнения, рассудка, приличий или жалости. Она не жалела себя и потому была вправе не жалеть других! Но Митя… Ах, если бы он не был столь завершен, спокоен, недосягаем! Тогда отказаться было бы несравнимо легче, свести все к весеннему флирту, к нескольким поездкам на Каменный. Но соблазн недосягаемого преодолеть почти невозможно.