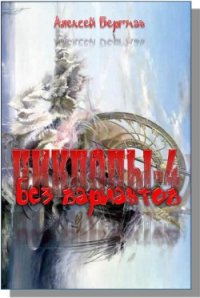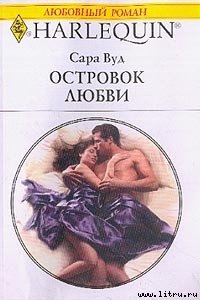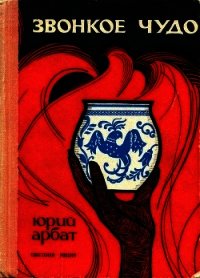Парадиз (СИ) - Бергман Сара (читаем книги онлайн бесплатно полностью txt) 📗
— Ты хорошо выглядишь, — тихо сказал Дебольский.
Она продолжала идти, не открывая глаз, глядя под ноги только сквозь вязь ресниц.
— У меня свидание, — сказала она с тем же безмятежным выражением лица.
— С тем человеком?
…тайком ты слезу утираешь…
Зарайская, отпустив солнце, бросила короткий, не доходящий до лица, взгляд на Дебольского. Мазнув только по плечу. И промолчала.
…как я люблю глубину твоих ласковых глаз…
Протяжная аккордеонная песня вилась над входом на кладбище. Над широкими чугунными воротами, в которые проходили и выходили толпы народа. Над сутолокой аляповатых, вызывающе-ярких цветов, чей сонм топорщился, уходя бахвалистыми рядами в небо. Над головами старушек, побирающихся у ног проходящих. Над людьми, которые, выходя, наклонялись — бросали в их пакеты железную мелочь, соблюдая давние, от матерей доставшиеся, традиции, всплывшие в сознании к собственной старости. Долгая, тягучая нота перебирала кладбищенские постройки, поднималась к верхушкам деревьев, набухших почками, растворялась в голубом весеннем небе.
— Ты его любишь?
…я спокоен в смертельном бою…
Лёля сделала шаг за тяжелые ворота.
У тротуара, между парковкой, забитой толкотливыми машинами, и забором, у поребрика стоял ящик — обычный деревянный ящик, — на котором сидел кладбищенский старик. В куртке и разношенных дешевых ботинках с тяжелыми квадратными носами. Широко расставив больные артритные колени, ссутулив плечи, запрокинув седую голову в древней кепке и прикрыв глаза, он растягивал аккордеонные мехи:
…тревожная, черная степь пролегла…
И раскачивался в такт своей игре. Задевая коленом выцветший пакет для подаяния, расхристанный между ботинок.
Зарайская сунула руки в маленькие кармашки пиджака, длинные белые волосы обвили напряженную спину, обняли и утешили.
Она сделала медленный танцующий шаг вперед.
За ее узкими плечами Дебольский видел тяжелый скорбный автобус, нанятый за счет «ЛотосКосметикс». В печальной ритуальности перегородивший парковку и распахнувший траурные недра. Заплаканные люди — женщины в повязанных на головы платках, мужчины с придавлено опущенными головами — медленно всасывались в его двери. Старики убирали выставленные для гроба табуретки.
…смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи…
Волосы Зарайской заплясали в солнечных лучах, взлетели в воздух, завились вокруг плеч, закружились, обнимая ее ломкое, струнно вытянутое тело. Шаг-шаг-шаг… шаг-шаг-шаг…
…вот и сейчас надо мною она кружится…
Остро взведя напряженные плечи, держа кончики пальцев в карманах кургузого пиджака, она, невесомо переставляя ноги на острых, тонких каблуках, кружилась в вальсе.
…и я знаю, со мной…
Женщины с тяжелыми пакетами, с первовесенними робкими цветами для усопших, огибали ее, тихо втягиваясь в кладбищенские ворота.
Черная юбка кружилась, тяжело обвивая ее хрупкие ноги, волосы вились по спине, бледное лицо с полузакрытыми глазами склонилось к плечу.
…ничего не случится…
Она сделала полный оборот, замедляясь, прошла еще двумя неровными шагами и, остановившись возле Дебольского, дрогнула уголками губ:
— Мы встречаемся два раза в неделю.
37
Несколько дней после похорон офис провел в угнетенном молчании, по временам перемежавшемся ненатуральным жизнерадостным смехом. Как всегда бывает, когда люди вдруг слишком близко сталкиваются с пугающей неожиданностью смерти. И на какое-то время затихают в молчаливом страхе, подстилаемым робким, радостным счастьем эгоизма, — ведь жизнь идет.
Но постепенно это улеглось, давящая муть зыбью осела на дно, и все начало возвращаться на круги своя. И суматошно нервозная, восторженная присутствием Жанночка, первой отошедшая от серой хмари близкой смерти, снова шумным волчком закрутилась вокруг стола Зарайской.
Которая обрела в ее глазах божественный статус, окуталась флером сакральности. И, как любое божество, тут же начала обрастать мифами.
Жанночка почти все время говорила о Зарайской. И почти всегда какую-то ерунду. Когда она открывала рот, Дебольский обычно выходил: слушать ее было как-то неловко. Как если взрослый человек с горящими от восторга глазами продуцирует до смешного наивные сентенции, и не ему, но окружающим становится тягостно неловко. И все, кроме говорящего, начинают прятать глаза, спасаясь от сиюминутной рдеющей конфузливости.
Вот и Жанночка в наивных, полных восторга сплетнях своих говорила о ком угодно, только не о настоящей Зарайской.
Как ни смешно, выдумывала и Эльза Анатольевна. Но непростая Зарайская ее, наверное, пугала. И хотя та относилась к Эльзе ровно, даже сочувствующе и много раз — Дебольский сам это видел — пыталась сделать шаги к сближению, та неизменно понимала, а даже и воспринимала ее превратно. Будто видела на месте Зарайской что-то другое, накрепко связанное с собственными фантазиями.
И тоже распускала сплетни. Только в отличие от Жанночки по большей части, не то чтобы злые, но явственно осуждающие. Боязливо укоряющие, недоуменные. Так, наверное, язычники в суеверном страхе говорили о молнии. Объясняя ее тысячью разных причин, не имеющих отношения к действительности.
И, что странно, говоря о Зарайской, она неизменно упоминала некую «Ольгу Георгиевну». Загадочную, пугающую подсознание женщину, чье имя никому в офисе не было знакомо. О которой никто не знал, не слышал. И потому, вежливо кивая, люди даже не понимали, о ком так долго и пространно ведет речь эта нелепая, живущая в собственном мире, женщина.
Отчего складывалось ощущение, что Зарайских в конторе две, и обе они не имеют ничего схожего с настоящей. Рисуясь только женской, непробиваемой в основательности своих иллюзий, фантазией.
Сама же Зарайская ко всем относилась с каким-то ровным изучающим пониманием. Отстраненно ласкова была с Жанночкой. Сочувствующе деликатна, с долей разочарования в глубине дымных, плещущих волнами глаз, с Эльзой Анатольевной.
Издалеко внимательна с Поповым.
Попов вышел на работу уже в понедельник. И никто тогда не стал ничего спрашивать или советовать, все понимали: ему невмоготу сидеть одному дома. Удивительно тактично подошел к делу Сигизмундыч и при общих разносах подчиненным ни слова не говорил в сторону Попова. И тот целыми днями сидел за своим столом, молчал, уткнувшись в монитор. Делал что-то, хотя никто не знал, что именно.
И, как никогда прежде, он стал походить на привидение. Даже веселая лаковая лысина его поблекла, перестала так отражаться в искусственном свете. А может, дело было в том, что лампы перестали включать: в город наконец пришла весна.
И при вялой прострации Попова, при потерянности Волкова, в самое сердце сраженного новым романом его сумеречной мечты, в тренерском отделе, казалось, воцарилась одна она. Лёля Зарайская.
Горько-сладкий аромат духов повис с воздухе, осел на одежде, причудливо остался привкусом на губах.
В глубинах слуха трепетал шелест ее юбки. Голос и смех. Словно она всегда витала где-то тут, рядом, даже когда ее не было, и она вела занятия в большом или малом конференце. Даже в те два дня, когда приезжала группа, и они практически не видели Зарайскую. Она оставалась здесь. С того самого момента, когда по утрам открывала входную дверь:
— Бонжур!
И окидывала офис дымным, мелко искристым взглядом цвета воды.
А на столе ее сменялся калейдоскоп цветов. И Волков — влюбленный по уши дурачок Волков — каждый раз бросал на них больные, страдающие взгляды.
Впрочем, возможно, некоторые из них приносил и он. Зарайская никогда не спрашивала и не интересовалась, кто оставил для нее:
тридцать одну алую розу в хрустящем прозрачном свертке,
экзотическую охапку орхидей,
скромные, но постоянно сменяющиеся тесно толкотливые охапки тюльпанов.
Впрочем, эти, скорее всего, оставлял Азамат. Который теперь появлялся в отделе и подолгу разговаривал с ней в коридоре. Или приходил под каким-то явно надуманным предлогом, что-то обсуждал. Так низко наклоняясь к ее столу, что ничего невозможно было расслышать. Стоял возле нее в коридоре, и со стороны было видно, как касался ее руки, плеча, спины.