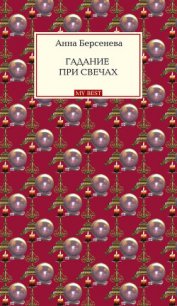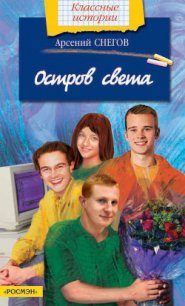Возраст третьей любви - Берсенева Анна (книги регистрация онлайн .TXT) 📗
Она уже не слышала его последних слов – чужих, но таких, которые могли быть его словами. Она понимала неотвратимость всего, что он сказал, и, забыв обо всем, как в омут бросаясь, отдалась его последней нежности, и страсти, и любви, и разлуке…
Глава 11
Слова о собственной трусости вырвались у него от отчаяния. Но он понимал, что почти прав. Ну, может быть, не совсем трусостью называется чувство, которое вело его по жизни, позволяя, как подводные камни, обходить все, что он обозначал словами: «Не хочу». Может быть, это было просто нежеланием насиловать свою душу.
Но сейчас, когда вся его душа рвалась только к Жене, Юре казалось, что трусость – самое точное слово, потому он его и произнес.
Он знал, что не притворяется, не рисуется, не старается выглядеть лучше, чем есть. Он действительно не хотел, и просто не мог, принимать участие в той жизни, которой, как он уже понял, Женя жила все время, пока не побежала по льдине темная водянистая трещина…
Он еще мальчишкой это понял, во время одного из множества светских вечеров, на которые брала его с собой бабушка Миля.
– Зачем мы туда идем? – спросил Юра, глядя, как бабушка с особенной тщательностью закалывает свои роскошные гнедые волосы каким-то необыкновенным медным гребнем с крупными камнями. – Ты же не любишь Людмилу Васильевну. И почему ты хочешь, чтобы я с тобой пошел?
Ему недавно исполнилось пятнадцать лет, а выглядел он взрослее, изящнее, чем выглядит подросток, хотя и был невысок ростом. И ему ужасно не хотелось идти «на раут» к женщине, которую бабушка Миля не называла иначе, как стукачкой и стервой, и в доме которой царила чопорная скука.
Была и еще одна причина, но о ней Юра ни за что не стал бы рассказывать бабушке. Людмиле Васильевне было лет сорок, но лицо у нее было холеное, без единой морщины, и фигура стройная, и ходила она, плавно покачивая бедрами. И всегда смотрела на него таким взглядом, каким сорокалетние женщины не смотрят на пятнадцатилетних мальчиков. Юре одновременно сладко и противно становилось от этого взгляда, а ночью он мучился, уже и вовсе не понимая, сладко ему теперь или противно…
– Ох, Юрочка, – вздохнула бабушка, – идем мы туда потому, что я слабый и грешный человек. И мне, человеку слабому и грешному, очень хочется поехать в Австралию, где я еще ни разу не была. А для того чтобы поехать мне в Австралию, надо было бы сделать множество всяких гадостей, о которых я тебе, мальчику моему милому, говорить даже не хочу. И делать их тем более не хочу. Поэтому мне надо пойти к чертовой Люське Кирилловой, у которой сегодня будут все, от кого зависит Австралия, понимаешь? А иначе я этих нужных людей никогда не увижу в искомой непринужденной обстановке. Иначе они мне такую непринужденную обстановку предложат, после которой и Австралии не захочешь… – Она наконец вдела в волосы гребень и тут же закурила свою любимую «Шипку». – Так что, Юрочка, придется мне пойти к Люське и там со всеми переговорить. Потому что, мальчик мой, в жизни редко приходится выбирать между хорошим и прекрасным, и даже редко между плохим и хорошим. А чаще всего – между плохим и отвратительным. Вот я и выбираю плохое. А тебя с собой тащу, чтобы ты это увидел и понял сейчас, пока во все это еще не втянут. И посмотрел бы, как надо себя вести с людьми, от которых ты зависишь, и где проходит граница допустимого. Потому что это, маленький мой, такое нелегкое дело, которое многих насмерть сломало… А кроме того, Юрочка, – улыбнулась она, и глаза ее сразу вспыхнули синими искрами, – мне легче будет, если я твое лицо буду видеть среди этих рож. Так что уж помоги мне, пожалуйста, выдержать этот приятный вечерок!
Он вздохнул тогда, кивнул и подумал: не знаю, может, я чему-нибудь и научусь, о чем она говорит, может, и научусь различать плохое и отвратительное, – но уж точно не буду жить так, чтобы мне это пригодилось…
Он не то чтобы цель такую перед собою поставил. Юра вообще не любил ставить перед собою цели, чтобы потом, ничего кругом себя не видя, их достигать. Но он всю жизнь инстинктивно уходил от ситуаций, из которых надо было бы выпутываться, балансируя на этой самой грани допустимого, которую он с бабушкиной помощью и в самом деле почувствовал в детстве.
Даже прямая опасность была для него проще, чем это… Юре легче было оперировать под бомбежкой, чем вникать во множество бессмысленных подробностей, опутывающих обыденную жизнь. Кто-то кому-то что-то сказал, тот передал другому, другой нашептал начальнику, начальник подумал, будто ты хочешь втихаря, и вот теперь надо пойти, посидеть как люди за бутылочкой, объяснить, ничего страшного, потерпишь, не дерьмо кушать, а то ты ж сам понимаешь… Да пошло бы оно все! Жизнь-то одна, и смерть одна, и грань между жизнью и смертью он видит каждый день.
Юра никогда не думал, что в его работе, которая требовала всех сил и всего времени, может возникнуть ситуация, из которой не будет прямого выхода. А когда это все-таки случилось, то он понял, что совершенно беспомощен, что не далась ему бабушкина наука.
И, как назло, все это произошло вскоре после расставания с Соной, когда нервы его и так были на пределе.
Если бы можно было, он совсем переселился бы в Склиф. Только здесь, за работой, Юра переставал думать обо всем, что произошло: вспоминать, как она уходила, и сразу – все остальное, но словно в обратном направлении крутя кинопленку…
Да и вообще, действительность мало давала поводов для оптимизма. Дело было даже не в том, что жизнь стала тяжелая, что зарплата врача, и раньше небольшая, теперь сделалась просто мизерной. Все это мало его пугало, может быть, потому что он находился в выгодном положении: дети-то по лавкам не плачут.
Но вот то, что произошло из-за этого со слишком большим количеством людей, это… Не то чтобы пугало, скорее раздражало. Ну, платят тебе мало, ну, жена за это пилит. Так нечего было на дуре жениться, сам виноват. И почему вдруг надо забыть все, что было в твоем детстве, чему незаметно учили родители, чему учила вся твоя жизнь? Или ничему все это тебя не учило?..
Юре казалось странным, что люди вдруг начали метаться, ломаться, что они пытаются переосмыслить свою жизнь вместе со всей своей личной системой ценностей. Как будто если об этом не твердят на комсомольском собрании, то уже и не существует самых обыкновенных, никем и ничем не отменимых вещей…
Гринев понимал, что глупо злиться на несовершенство человеческой природы, которая пугается при мысли о том, что нечего будет кушать. И все-таки каждый раз, сталкиваясь в быту с проявлениями этого естественного человеческого свойства, он приходил в состояние глухого раздражения. И сам догадывался, что это не делает его приятным для окружающих человеком.
А на работе всего этого не было – или, во всяком случае, ему было не до этого. Стоя у операционного стола или дежуря в реанимации, как-то вообще трудно было представить, что можно думать о человеческом несовершенстве, или о маленькой зарплате, или о Соне…
Поэтому Гринев дорабатывался до такого состояния, что даже невозмутимый завотделением Светонин как-то заметил:
– Ты бы, Юра, все-таки тормознулся слегка. Людей же режешь, не бревна. А у тебя круги синие под глазами. Судьбу испытываешь?
Конечно, Гринев старался рассчитывать свои силы, а уж о том, что режет людей, а не бревна, он и вовсе помнил без напоминаний. Но все-таки Светонин был прав: его состояние – это его личные проблемы, больные здесь ни при чем.
– Да ухожу ведь уже, Генрих Александрович, – улыбнулся он. – Теперь Приходько будет резать.
– Вот и уходи, – кивнул Светонин, закрывая за собою двери реанимационного блока. – До изнеможения себя довести и дурак может.
Светонин спустился в реанимацию во время Юриного дежурства, чтобы посмотреть только что поступившего больного: зав специализировался по черепно-мозговым травмам, и его вызывали на трудные случаи постоянно.