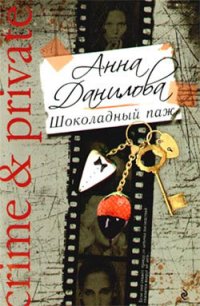Гадание при свечах - Берсенева Анна (лучшие книги без регистрации .txt) 📗
«Охотничий клуб» собирался не слишком часто, поэтому Леонид Андреевич удивился, когда Марина спросила его однажды:
– Папа, ты не мог бы завтра не ездить на охоту?
– Почему? – Бровь его недоуменно надломилась. – У тебя что-то случилось, Марина?
– Нет, ничего… Мне что-то тоскливо, я сама не понимаю…
– Марина, нельзя же так, – недовольно заметил отец. – У каждого может быть плохое настроение, но невозможно ведь из-за этого требовать от окружающих, чтобы они меняли свои планы!
– Нет, я не требую, – слегка смутилась Марина. – Просто я подумала: ну можешь ведь ты один раз не поехать?
– Видишь ли, – мягко сказал отец, – мне не хотелось бы пропустить завтрашнюю охоту. Павел Макарович достал лошадь с телегой – значит, на Черное озеро сможем поехать. Ведь жаль упускать такую возможность, правда?
Лошадь с телегой действительно удавалось достать не каждый день, ветеринар Павел Макарыч расстарался. И, вздохнув, Марина согласилась с отцом.
Она всегда вставала рано утром, чтобы его проводить, и на этот раз тоже поднялась затемно. Но как ни рано она проснулась, отец уже был одет и допивал кофе, сидя в гостиной за столом.
– Все, милая, я убегаю! – сказал он, вставая. – Отчего ты бледная такая?
– Спала плохо, – ответила Марина. – Ты надолго, папа?
– Да как обычно, на два дня. У лесника переночуем. Да не волнуйся ты так, Мариша! Вот вернусь – пора нам с тобой серьезно поговорить. По-моему, ты слишком склонна ко всяческой мистике, тебе следовало бы меньше значения ей придавать. Но – потом, потом!
Марина видела, что весь он уже там, на своем Черном озере, и о какой-нибудь дурацкой утке думает больше, чем о ней. Темные глаза Леонида Андреевича радостно поблескивали над высокими, как у Марины, скулами; уголки твердых губ вздрагивали от легкой насмешки над впечатлительной своей дочкой.
– Брось, брось, Мариночка! – повторил он, целуя ее. – Сон, наверное, видела какой-нибудь? Я бы тебя лучше попросил «Вертера» письменно пересказать к моему возвращению. Ей-богу, куда больше будет пользы: твой немецкий оставляет желать лучшего.
Стоя на крыльце, Марина смотрела, как отец идет к колхозной конюшне, где ждал Павел Макарыч. Он шел по мокрой осенней дороге, а походка у него была такая, словно ему не приходилось выдергивать из грязи высокие охотничьи сапоги, – легкая была походка, летящая…
Сердце у Марины вдруг замерло и тут же провалилось в пустоту. Она готова была побежать за ним прямо по грязи, закричать и заплакать, чтобы он остановился, вернулся. Но представив, какое недоумение и даже, может быть, раздражение вызовет у отца ее бестолковый крик, Марина вздохнула и, повернувшись, пошла в дом.
Была суббота, в школу идти было не надо, и она провела весь день дома, слоняясь по комнатам и места себе не находя.
Пересказ «Страданий юного Вертера» она написала быстро. Закрыла тетрадь и тут же засомневалась в одном артикле, но проверять не стала. День потянулся в прежней неясной тоске.
Вечером она едва уснула, уняв свою необъяснимую тревогу только тем, что подумала о завтрашнем возвращении отца и о том, что с утра надо испечь его любимый яблочный пирог.
Когда среди ночи раздался бешеный стук в двери и в окно, Марина проснулась мгновенно, как будто и вовсе не спала.
Все дальнейшее она помнила одновременно и смутно, и так ясно, словно оно было освещено ослепительным огнем.
Вытаращенные глаза и истошный вой Глаши, трясущиеся руки Павла Макарыча, топот сапог по чистым половицам…
И – сине-белое отцовское лицо, в котором не было жизни.
Может быть, если бы он был жив и ему можно было помочь, Марина не впала бы в такой столбняк. Но она сразу поняла, что он мертв, едва его внесли в дом на мокром брезентовом плаще и отвернули капюшон, закрывавший лицо. Он был мертв – а лицо у него было спокойное, ясное, несмотря на пятна пороха и крови.
И она остолбенела, глядя на него, не в силах шевельнуться, отвернуться, закричать…
– Мариночка, – слышала она торопливый, словно оправдывающийся голос Павла Макарыча, – никто ж ни сном ни духом! Если б мы там пьяные были, или что… Леонид Андреич, он же вовсе не употреблял, и мы – сама знаешь, на охоте ни-ни! – Павел Макарыч, казалось, торопился рассказать ей о том, как все произошло, чтобы как можно скорее сбросить с себя груз этой нелегкой обязанности. – Он за уткой, за уткой проклятой! Выстрелил, понимаешь, да не попал, она возьми и улети, села в камыши. Ну, а он уж в азарт вошел. Его и Витька, доктор молодой, останавливал: брось, мол, Леонид Андреич, не все ж тебе должно везти, не во всем же! А он – нет, достану. Ну и влез на камень этот, чтоб, значит, сверху ее углядеть… А курки-то взведены, стрелять же собирался… Как ружье выпало у него, ума не приложу! Как все равно кто под руку его толкнул… Прикладом вниз, ну и, понятно, выстрелило – вверх прямо, что ты будешь делать! – Павел Макарыч сокрушенно покрутил головой, робко вглядываясь в неподвижное Маринино лицо. – У нас же там два врача было, да и я какой ни на есть… Если б можно было, разве мы бы!.. В сонную артерию прямо, чего уж тут лечить…
Он замолчал, и Марина уже не понимала: слышала ли она его сбивчивый рассказ или просто видела все наяву – может быть, еще прежде, чем это случилось…
Она не знала, почему отца внесли в дом – наверное, просто от общей растерянности. Его тут же перенесли в больницу, вызвали из райцентра милицию, но этого она уже и вовсе не видела.
Словно сквозь пелену доносился до нее голос Глаши:
– Нельзя так, Мариночка, ты б поплакала хотя! Легче будет, разве можно!..
Она что-то делала, кого-то видела рядом – бабушку, Глашу, опухшую от слез анестезиологшу Риту Матвеевну – и не видела никого и ничего. Только отца – но не лежащим в гробу с этой страшной печатью смертного покоя на лице, а уходящего от нее легкой, стремительной походкой…
Это потом пришли другие воспоминания – бесчисленные, счастливые, мучительные! А в день его похорон Марина всем казалась сомнамбулой: послушно шла, куда вели, молчала, не плакала и, кажется, вообще не понимала, где находится.
Жизнь разверзлась перед нею такой бездной, о которой она и не подозревала.
Бабушка звала пожить у нее, но Марина лучше сама умерла бы, чем согласилась оставить отцовский дом. Здесь была его душа – не девять дней, а всегда. А значит, здесь должна была идти ее жизнь.
И здесь она прожила еще год – последний свой год в Калевале.
После похорон бабушки Марина как-то сразу осознала полное свое одиночество и поняла, что должна будет уехать. Она поняла это сама по тому ощущению неприкаянности, которое стало теперь главным в ее жизни. Да и просто: ну что ей было делать здесь, одной, в глухом карельском поселке?
Вдруг оказалось, что все очарование родного пространства было связано только с отцом. Его не стало – и Марина безразлично смотрела на знакомую дорогу, ведущую к лесу, на озеро, из-за которого с ясным весенним обещанием поднималось солнце…
Она была готова уехать, ей хотелось уехать как можно дальше – исчезнуть, раствориться, бежать от той бездны, над которой она так мгновенно оказалась!
Может быть, поэтому Марина почти не удивилась, когда об этом с нею заговорил чужой человек. Она даже знала, о чем он будет говорить, когда смотрела из окна отцовского кабинета, как он идет к дому, семеня короткими своими ногами.
Врач Витя долго откашливался, бормотал:
– Выражаю, так сказать… С опозданием, можно сказать…
– Что вам нужно, Виктор Николаевич? – спросила наконец Марина. – Зачем вы приехали?
Он тут же перестал кхекать и сопеть; взгляд у него стал знакомый – цепкий и ощупывающий.
– Действительно, чего там тянуть, – кивнул он. – Дело такое, Марина Леонидовна, ты девушка взрослая, должна понимать. Покойнику в земле лежать, а живым людям врач положен. – Он замолчал, словно ожидая расспросов, но Марина тоже молчала. – Короче, меня к вам назначили, в больницу то есть.
Марине надоело его выжидающее молчание, и она наконец спросила, в упор глядя на него: