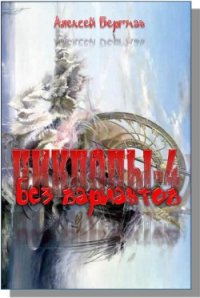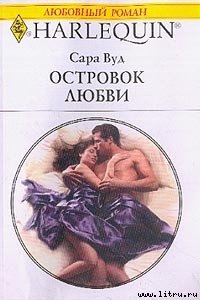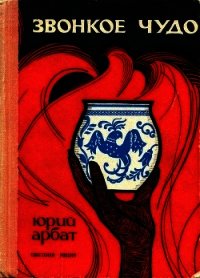Парадиз (СИ) - Бергман Сара (читаем книги онлайн бесплатно полностью txt) 📗
Ничего не изменилось со времен их детства. С тех пор, когда Сашка в глубине души выделял себя и чувствовал хоть и на толику, но выше. Потому что у него у единственного была любящая и даже полная семья: и отец, и мать. И деньги. И тетка-проректор в Питере.
А Лёлька с Пашкой должны были тогда смутно ощущать свою обделенность. Лёлька в полунищей семье бывшего военного. Пашка с матерью, пребывающей в вечном поиске нового мужа. Сколько разговоров тогда было о Пашкиной матери. И сколько замалчивала настороженная глазастая Лёлька.
Это все давно стерлось из сознания Дебольского. А вот теперь выплыло. Медленно, неверно выбираясь из закромов памяти.
— Как все — ничего выдающегося, — дежурно махнул он рукой. И в самом деле, ощутив, что все это незначительно, неважно, легко покинуто.
Хотел было спросить в ответ. Но не успел. Его перебил оживленный Пашка:
— А кем работаешь-то?
Совсем как когда-то в школе. Где Свиристельский был чуточку говорливее, живее, подвижнее. Всего только на ту чуть, которой хватало, чтобы всегда выкрикнуть первым.
Свиристельский сверкнул крупными белыми зубами. Всегда смешливый, подвижный, озорной Пашка — никогда не поймешь, когда он шутит, а когда нет. В этом он опережал Сашку, отыгрывая его родителей, доброту его матери, достаток в доме. Фирменные джинсы, о которых Пашка никогда и не мечтал.
— А сам-то, в Москве, на Сахалине? — наконец вклинился Дебольский, машинально хватая его за плечо, отодвигая с толкотливого центра холла. Будто готовился к долгому — очень долгому — разговору.
— Да какой! — махнул тот рукой. — В Кирове. Вырвался с этого проклятого Сахалина в позапрошлом. Вот до сих пор поверить не могу, — и рассмеялся. Громко, басисто.
Хотел еще что-то добавить, но посмотрел через плечо Дебольского и замолчал. Заставив того обернуться.
Как раз, чтобы увидеть, как в крестовину входных дверей ступила Лёля Зарайская.
Блистательно-свежая, в трепетно нежном млечно-сером платье, она кольнула острым каблуком сверкающий пол центрального холла «ЛотосКосметикс», и металлический подбой клацнул о железный порог вращающейся крестовины. Ее тяжелая стеклянная створка медленно проплыла за узкой спиной Зарайской, легким дуновением воздуха коснувшись длинных белых волос.
Тонкими пальцами она ласкающим движением провела по шее, дробно перебрала, собирая искристые пряди на плечо. И, надломив щиколотку, качнулась на каблуках:
— Бонжур, — сжались тонкие, сложенные в улыбку губы. И уголки их дрогнули.
49
В баре было душно и сумрачно, как и принято в таких местах для насильственного создания душевной интимности. И четвертьпьяные, полупьяные и вовсе пьяные посетители натыкались друг на друга, обходя столы, ненароком толкали спинки стульев, извинялись, сплочались и единились, как самые родные и близкие.
Сладко-душная вонь кальяна проникала в поры, тепло горячила кровь. И Дебольскому от этой вроде бы давно приевшейся, за много лет надоевшей приторной атмосферы было удивительно хорошо — уютно хорошо.
А может, просто в венах уже растекался, крепостно согревая, алкоголь.
Он наполнил крутобедрые бокалы. Повинуясь какой-то привычной, естественной потребности, впитанной с воспитанием, усвоенной и закрепленной многолетней привычкой — при встрече со старым знакомым идти выпить. Порадоваться, отпраздновать гордость собой, заглушить огорчение и чувство несостоятельности, сбросить пелену скованности.
Пелену, которой не было.
Пашка Свиристельский. Тот самый Пашка — родной, знакомый — почти не изменился за эти годы. И Дебольский впервые уже бог знает за сколько времени почти забывшимся ощущением чувствовал с кем-то такую близость. И бьющийся в крови алкоголь подталкивал, подтверждал: тебе хорошо, тебе хорошо… тебе очень хорошо. Здесь ты свой.
Днем он заезжал домой — в пустую квартиру. За вещами. И странным образом не ощутил там ничего подобного. Все стало давно чужим. Он прошел по комнатам, вглядываясь в вещи так, будто был здесь в последний раз в прошлой жизни. И ему было восхитительно, упоительно все равно. Свободно.
А сейчас Пашка Свиристельский: с которым они вместе ходили в школу, маялись на контрольных, бегали встречать и провожать Лёлечку Зарайскую и которого он не видел после этого семнадцать лет, — был ему ближе и роднее женщины, десятилетие называвшейся его женой. И непонятно, были эти годы или не были? Или вся прожитая жизнь ему только приснилась, оказалась ненастоящей? А ему снова семнадцать. И можно начать все сначала?
А язык, смакуя остро-терпкий древесный вкус коньяка, развязался легко, запросто. Оставляя Дебольскому только поражаться: как он мог все это потерять? Куда? Зачем?
С Пашкой они вместе ходили в садик, вместе в школу с первого до последнего класса. Куда к ним на параллель в четырнадцать пришла Лёлька Зарайская — смешная, нелепая, конопатая. Почему-то сразу сдружившаяся именно с ними. Какой-то неразрывной, нутряной дружбой, как естественным продолжением вещей: Саша, Паша, Лё-оля.
— Так где работаешь? — спрашивал он Свиристельского.
И разливал по бокалам коньяк.
Смотрел на кутающуюся в платок Зарайскую. В густом жарком облаке барного дыма и людских испарений она холодно прижимала локти к ломко-хрупким ребрам, потирала руки, и плечи ее мелко подрагивали от озноба.
Она не пила. Хотя Пашка не отказался ни от пива, ни от коньяка, ни от водки. И оба были уже чуть тепленькие.
По внешнему виду Свиристельского легко понималось, что такой бар ему не по карману. Но сегодня Дебольский был широк. Сегодня ему было хорошо. Пригласил не раздумывая, не делая подачек. Упиваясь школьной привычкой — делиться всем.
— Да так, — пожал плечами Свиристельский, опрокинул коньяк. Как пьют обычно дешевую водку из пластиковых стаканчиков, глубоко запрокинув назад голову.
Мальчишками они так выделывались друг перед другом, когда глушили дешевое пиво.
— То тут, то там, — неопределенно закончил он, тяжело, жжено выдохнув и тряхнув головой. Зажевал лимоном: — В общем, ищу пока, — и, охотно рассуждая, продолжал: — Сам понимаешь, Киров не Москва.
И тоже бросил короткий взгляд на Зарайскую.
Тот самый взгляд. Дебольский почувствовал его. Он отозвался. В крови, в запревшей изгоряченной сперме, в накипевшей на языке слюне. Он увидел глазами Свиристельского ее кожу, обманчивую тесноту платья, обещающую темноту впадин ее тела, сонную негу разгоряченных бедер, одержимую истонченность губ. И болью в солнечном сплетении ощутил сжатые под столом колени, стиснутые икры, сведенные щиколотки.
— В Москве-то устроиться проще, — вырвал его Пашкин голос, — но тут не проживешь. — Свиристельский, не чинясь, налил себе одному коньяка и опрокинул. И тут же разлил обоим. — Да ничего, деньги есть. Устроюсь потом.
Пашка с видимым удовольствием говорил о Кирове. Видимо, после холодного, тяжкого, трудного Сахалина он еще не мог поверить, что оказался в каком-то другом, совсем другом месте. Где уже живет, где своя квартира…
— Да ничего особенного, обычная однушка. Но ничего, райончик хороший, уютный. Давай за встречу, — резко перескочил он и поднял бокал.
Там, на Сахалине, у Свиристельского осталась жена. Или даже две, если считать гражданскую. Впрочем, с обеими он расстался, уже был в разводе. Но ушел как настоящий мужик — в одних штанах. Оставил все: квартиру, старую машину.
И Дебольский подумал, что это правильно. Что действительно надо поступить красиво — оставить Наташке квартиру.
Они снова выпили.
Вдвоем, Зарайская к коньяку не притрагивалась. Она вообще ничего не ела. Просто слушала.
Сидела вполоборота, не разговаривала. Глядя куда-то в тесную сутолоку шумящего, гомонящего народа и крутя у губ длинной коктейльной соломинкой. Изредка только бросала короткий дымный взгляд на вторую половину стола и снова отводила глаза.
Зябко куталась в платок, и кончики худых пальцев ее мелко, приманчиво подрагивали. Не отрываясь от сумеречной ткани платья, тянулись навстречу: ко рту, к губам. Чтобы их — тонкие, трепетно-холодные, беззащитно-изломкие — жарко взять языком, охватить, вобрать, оставить на них свою слюну, высосать морскую соль, жадно облизать белую гальку костяшек.