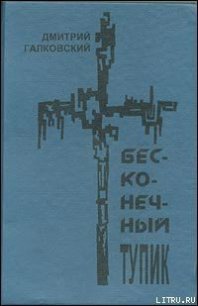Так называемое зло - Лоренц Конрад З. (читать книги бесплатно полностью .txt) 📗
Таким образом, если у огарей и нильских гусей натравливание, выраженное словами, звучало бы: «Гони этого типа! Расправься с ним! Фас!», то у нырков оно означает в сущности, только "Я тебя люблю!". У многих видов, стоящих где-то посредине между этими двумя крайними случаями, например, у кряквы или у свиязи, мы находим в качестве переходной ступени значение: «Ты мой герой, тебе я доверяюсь!» Разумеется, коммуникативная функция этого символа бывает различной в зависимости от ситуации даже у одного и того же вида, но постепенное изменение его смысла, несомненно, происходило в указанном направлении.
Можно было бы привести еще очень много примеров аналогичных процессов: у цихлид обычное плавательное движение превратилось в жест, подзывающий мальков, а в одном особом случае даже в обращенный к ним предупредительный сигнал; у кур кудахтание при кормежке стало призывом, обращенным к петуху, т.е. звуковым сигналом недвусмысленно сексуального содержания, и т.д. и т.п. Я хотел бы подробнее остановиться лишь на одной последовательности дифференциации ритуализованных форм поведения из жизни насекомых – не только потому, что она едва ли не лучше, чем только что рассмотренный пример, иллюстрирует параллели между филогенетическим возникновением церемонии такого рода и культурно-историческим процессом образования символов, но еще и потому, что в этом единственном в своем роде случае "символ" состоит не только в формах поведения, но принимает материальную форму, превращаясь в буквальном смысле слова в фетиш.
У многих видов толкунов, близких к ктырям, [9] развился столь же красивый, сколь целесообразный ритуал, состоящий в том, что самец непосредственно перед спариванием вручает своей избраннице пойманное им насекомое подходящего размера. Пока она вкушает этот дар, он может ее оплодотворить без риска, что она съест его самого, – а такая опасность у мухоядных мух несомненна, тем более, что самки у них крупнее самцов. Без сомнения, именно эта опасность произвела селекционное давление, выработавшее такое удивительное поведение. Но эта церемония сохранилась также и у одного вида – северного толкуна, – у которого самки, кроме этого свадебного пира, никогда больше мух не едят. У одного из североамериканских видов самец ткет красивый белый шарик, привлекающий внимание самки зрительно и содержащий несколько мелких насекомых, которых она поедает во время спаривания. Подобным же образом обстоит дело у мавританского толкуна, у которого самцы ткут маленькие развевающиеся вуали, иногда – но не всегда – вплетая в них что-нибудь съедобное. У обитающей в Альпах «веселой мухи-портного» (Hilara sartor), больше всех своих родственников заслуживающей имени «плясуньи», самцы вообще больше не ловят насекомых, а ткут необыкновенно красивую маленькую вуаль, которую растягивают в полете между средними и задними лапками, и самки реагируют на вид этих вуалей. «Когда сотни этих крошечных мушек кружатся в воздухе искрящимся хороводом, их маленькие, примерно двухмиллиметровые вуали, сверкающие на солнце, как опалы, являют собой изумительное зрелище» – так описывает Хеймонс коллективную брачную церемонию этих мух в новом издании Брема.
Говоря о натравливании у самок утиных, я пытался показать, каким образом возникновение новой наследственной координации вносит весьма существенный вклад в образование нового ритуала и как на этом пути возникает автономная и очень жестко закрепленная по форме последовательность движений, то есть не что иное, как новое инстинктивное движение. На примере толкунов, танцевальные движения которых еще ждут более детального анализа, можно, видимо, продемонстрировать также и другую столь же важную сторону ритуализации – вновь возникающую реакцию собрата по виду, которой он отвечает на символическое сообщение. У тех видов толкунов, у которых самки получают лишь чисто символические вуали или шарики без съедобного содержимого, они очевидным образом реагируют на этот фетиш ничуть не хуже или даже лучше, чем их прародительницы реагировали на вполне материальные дары в виде съедобной добычи. Так возникает не только не существовавшее прежде инстинктивное движение с определенной функцией сообщения, выполняемое одним из собратьев по виду – «действующим», – но и врожденное понимание этого сообщения другим – «реагирующим». То, что кажется при поверхностном наблюдении «одной церемонией», зачастую состоит из целого ряда элементов поведения, взаимно запускающих друг друга.
Вновь возникшая моторика ритуализованной формы поведения носит характер вполне самостоятельного инстинктивного движения; точно так же и запускающая ситуация – которая в таких случаях в значительной степени определяется ответным поведением собрата по виду – приобретает все свойства удовлетворяющей инстинкт заключительной ситуации, к которой стремятся ради нее самой. Иными словами, последовательность действий, первоначально служившая другим объективным и субъективным целям, становится самоцелью, как только превращается в автономный ритуал.
Было бы серьезным заблуждением считать ритуализованную форму движения натравливания у кряквы или даже у нырка «выражением» любви или привязанности самки к своему супругу. Обособившееся инстинктивное движение – это не побочный продукт, не «эпифеномен» союза, соединяющего обоих животных, оно само и есть этот союз. Постоянное повторение такой связывающей пару церемонии свидетельствует о силе автономного инстинкта, приводящего ее в действие. Если птица теряет супруга, она тем самым теряет единственный объект, на который может разряжать этот инстинкт; и способ, которым она ищет потерянного партнера, имеет все признаки так называемого аппетентного поведения, то есть неодолимого стремления обрести ту запускающую внешнюю ситуацию, в которой может разрядиться напирающий инстинкт.
Здесь нужно подчеркнуть тот чрезвычайно важный факт, что в процессе эволюционной ритуализации в таких случаях возникает новый и совершенно автономный инстинкт, который в принципе так же самостоятелен, как любой из так называемых «больших» инстинктов – питания, спаривания, бегства и агрессии. Вновь возникшее побуждение, как и любое из этих четырех, занимает свое место и имеет голос в Великом Парламенте Инстинктов. И это опять-таки важно для нашей темы, потому что очень часто самая подходящая роль для таких инстинктов, возникших посредством ритуализации, состоит именно в том, чтобы выступать в этом парламенте против агрессии, направлять ее в безопасное русло и тормозить ее воздействия, вредные для сохранения вида. В главе о личной связи мы увидим, как выполняют эту важнейшую задачу прежде всего те ритуалы, которые произошли из переориентированных движений нападения.
Другие ритуалы – те, которые формируются в истории человеческих культур – передаются не наследственным путем, а традицией, так что каждый индивид должен снова их выучить. Но несмотря на это различие параллели заходят так далеко, что можно с полным правом опускать все кавычки, как и поступал Хаксли. В то же время именно эти функциональные аналогии показывают, с помощью каких совершенно различных причинных механизмов Великие Конструкторы достигают почти одинаковых результатов.
У животных нет символов, передаваемых традицией из поколения в поколение. Если бы мы захотели отграничить «животное» от человека с помощью общего определения, то границу следовало бы провести именно здесь. Впрочем, и у животных бывает, что индивидуально приобретенный опыт передается от старших к младшим посредством обучения. Такая настоящая традиция существует лишь у тех животных, у которых высокоразвитая способность к обучению сочетается с высокоразвитой общественной жизнью. Доказано, что она есть, например, у галок, серых гусей и крыс. Однако передаваемые таким образом знания ограничиваются самыми простыми – такими, как знание некоторых маршрутов, определенных видов пищи или опасных врагов, а у крыс также и опасности ядов.
Неизменным общим элементом как этих простых традиций у животных, так и высочайших культурных традиций у человека является привычка. Заставляя жестко придерживаться уже достигнутого, она играет здесь такую же роль, как наследственность в эволюционном возникновении ритуалов.