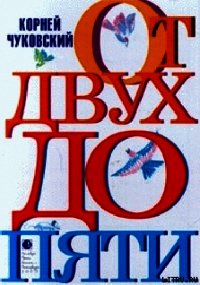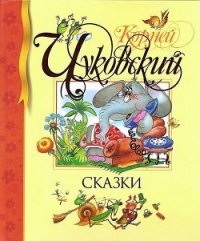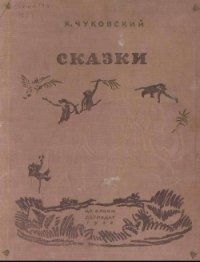Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь - Чуковский Корней Иванович (лучшие книги читать онлайн TXT) 📗
Перед нею была великолепная, узорчатая, многоцветная ткань, сверкающая яркими радугами, но для нее эта ткань была серая.
Конечно, при чтении она сделала немало ошибок. Вместо бла?га прочитала блага?, вместо меркантильный — мекрантильный и сбилась, как семилетняя школьница, когда дошла до слова фантасмагория, явно не известного ей.
Но что такое безграмотность буквенная по сравнению с душевной безграмотностью! Не почувствовать дивного юмора! Не откликнуться душой на красоту! Девушка показалась мне монстром, и я вспомнил, что именно так — тупо, без единой улыбки — читал того же Гоголя один пациент Харьковской психиатрической клиники.
Чтобы проверить свое впечатление, я взял с полки другую книгу и попросил девушку прочитать хоть страницу «Былого и дум».
Здесь она спасовала совсем, словно Герцен был иностранный писатель, изъяснявшийся на неведомом ей языке. Все его словесные фейерверки оказались впустую: она даже не заметила их.
Девушка окончила десятилетнюю школу и благополучно училась в педагогическом вузе. Никто не научил ее восхищаться искусством — радоваться Гоголю, Лермонтову, сделать своими вечными спутниками Пушкина, Баратынского, Тютчева, и я пожалел ее, как жалеют калеку.
Ведь человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, музыкой, живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, навсегда останется душевным уродом, как бы ни преуспевал он в науке и технике.
При первом же знакомстве с такими людьми я всегда замечаю их страшный изъян — убожество их психики, их «тупосердие» (по выражению Герцена).
Невозможно стать истинно культурным человеком, не пережив эстетического восхищения искусством. У того, кто не пережил этих возвышенных чувств, и лицо другое, и самый звук его голоса другой. Подлинно культурного человека я всегда узнаю по эластичности и богатству его интонаций. А человек с нищенски-бедной психической жизнью бубнит однообразно и нудно, как та девушка, что читала мне «Невский проспект».
Но всегда ли школа обогащает литературой, поэзией, искусством духовную, эмоциональную жизнь своих юных питомцев?
Нет, для множества школьников литература — самый скучный, ненавистный предмет.
Главное качество, которое усваивают дети на уроках словесности, — скрытность, лицемерие, неискренность.
Школьников насильно принуждают любить тех писателей, к которым они равнодушны, приучают лукавить и фальшивить, скрывать свои настоящие мнения об авторах, навязанных им школьной программой, и заявлять о своем пылком преклонении перед теми из них, кто внушает им зевотную скуку.
Я уже не говорю о том, что вульгарносоциологический метод, давно отвергнутый нашей наукой, все еще свирепствует в школе, и это отнимает у педагогов возможность внушить школярам эмоциональное, живое отношение к искусству.
Поэтому нынче, когда я встречаю юнцов, которые уверяют меня, будто Тургенев жил в XVIII веке, а Лев Толстой участвовал в Бородинском сражении, и путают старинного поэта Алексея Кольцова с советским журналистом Михаилом Кольцовым, я считаю, что все это закономерно, что иначе и быть не может. Все дело в отсутствии любви, в равнодушии, во внутреннем сопротивлении школьников тем принудительным методам, при помощи которых их хотят приобщить к гениальному (и негениальному) творчеству наших великих (и невеликих) писателей.
Без энтузиазма, без жаркой любви все такие попытки обречены на провал.
Теперь много пишут в газетах о катастрофически плохой орфографии в сочинениях нынешних школьников, которые немилосердно коверкают самые простые слова. Но орфографию невозможно улучшить в отрыве от общей культуры. Орфография обычно хромает у тех, кто духовно безграмотен. Ликвидируйте эту безграмотность, и все остальное приложится.
Глава восьмая
«Наперекор стихиям»
Письмо незнакомой читательницы:
«Нынче летом жила я в Мисхоре. На морском берегу невдалеке от меня расположилась обнаженная красавица. Глядя на нее с восхищением, я невольно повторяла стихи:
Все в ней гармония, все диво…
Каждая линия ее прекрасного тела была так благородна, что нельзя было не вспомнить античную статую. Через три дня красавица заговорила со мной и сразу показалась мне уродиной. Слова ее были такие:
— Ну и взопрела я на этом пляжу!»
И мне вспомнился другой такой же случай.
Какая-то «дама с собачкой», одетая нарядно и со вкусом, хотела показать своим новым знакомым, какой у нее дрессированный пудель, и крикнула ему повелительно:
— Ляжь!
Одного этого ляжь оказалось достаточно, чтобы для меня обозначился низкий уровень ее духовной культуры, и в моих глазах она сразу утратила обаяние изящества, миловидности, молодости.
И я тут же подумал, что если бы чеховская «дама с собачкой» сказала при Дмитрии Гурове своему белому шпицу: «Ляжь!», Гуров, конечно, не мог бы влюбиться в нее и даже вряд ли начал бы с нею тот разговор, который привел их к сближению.
В этом ляжь (вместо ляг) отпечаток такой темной среды, что человек, претендующий на причастность к культуре, сразу обнаружит свое самозванство, едва только произнесет это слово. Что, например, хорошего мог я подумать о том престарелом учителе, который предложил первоклассникам:
— Кто не имеет чернильницы спереду, мочай взад!
И о студенте, который сказал из-за двери:
— Сейчас я поброюсъ и выйду!
И о той любящей матери, которая на великолепнейшей даче закричала дочери с балкона:
— Не раздевай пальта!
И о том прокуроре, который сказал в своей речи:
— Товарищи! Мы собрались здеся вместе с вами, чтобы навсегда покончить с уродствами нашей жизни. Вот здеся перед вами молодой человек…
И о том директоре завода, который несколько раз повторял в своем обращении к рабочим:
— Нужно принять девственные меры.
Тамбовский инженер С. П. Мержанов сообщает мне о неприязни, какую он почувствовал к одному из своих сослуживцев, когда тот написал в докладной записке:
«Отседова можно сделать вывод».
«Также я хорошо понимаю, — продолжает т. Мержанов, — известного мне студента, который сразу охладел к любимой девушке, получив от нее нежное письмо со множеством орфографических ошибок».
Очень поучителен случай, рассказанный основателем ленинградского ТЮЗа, маститым режиссером А. А. Брянцевым. Ему позвонили из школы:
— Вам зво?нит преподавательница…
— Не верю, — прервал Александр Александрович и повесил трубку на рычаг.
Через минуту снова звонок, и снова:
— Вам зво?нит преподавательница…
— Не верю! — И трубка опять повешена.
В третий раз звонок:
— Товарищ Брянцев, вам зво?нит преподавательница. Почему вы не верите?
— Не верю, чтобы преподаватель мог так неправильно говорить — зво?нит (а не звони?т), — ответил в последний раз А. А. Брянцев.
Повторяю: прежде, лет сто назад, грешно было бы сердиться на русских людей за такие извращения речи: их насильственно держали в темноте. Но теперь, когда школьное образование стало всеобщим и с неграмотностью покончено раз и навсегда, все эти ляжъ и мочай не заслуживают никакого снисхождения.
«В нашей стране, — справедливо говорит Павел Нилин, — где широко открыты двери школ — и дневных и вечерних, — никто не может найти оправдание своей неграмотности».
Поэтому никоим образом нельзя допустить, чтобы русские люди и впредь сохраняли в своем обиходе такие уродливые словесные формы, как булгахтер, ндравится, броюсъ, хочем, хужее, обнаковенный, хотит, калидор.