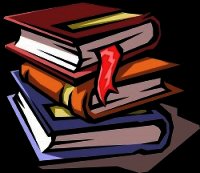Конец стиля (сборник) - Парамонов Борис Михайлович (библиотека электронных книг txt) 📗
Как говорит психоанализ, нет ничего тайного, что бы не стало явным. Когда человек хочет что-то скрыть (а скрывать ученичество у Шестова советскому писателю в 30-е годы было необходимо), он непременно проговаривается. Эренбург проговорился в «Книге для взрослых», один из персонажей которой наделен фамилией Шестов. (Кажется, проще было бы назвать его Шварцманом, — никто бы и сейчас не догадался!) Этот Шестов долженствует иллюстрировать собой излюбленный тезис настоящего Шестова: верую, ибо абсурдно. Верует он в индустриализацию; это ли не абсурд? — втихомолку ухмыляется Эренбург, озабоченный однако в этой книге тем, чтобы и самому произвести впечатление верующего.
Следует упомянуть также Гершензона. Гершензон и сам был под влиянием Шестова. Какой-то рецензент (кажется, Адамович) сказал, что гершензоновская партия в «Переписке из двух углов» — не более чем аккомпанемент на ноты Шестова. Вряд ли можно говорить о влиянии Гершензона на Эренбурга хотя бы потому, что «Переписка» велась в одно время с «Хуренито». Здесь не заимствования и не влияния важно отметить, а духовное сродство, типологическое сходство, общность еврейского культуроборческого сознания.
Культуроборчество евреев мало способствует творческой работе в культуре, такая работа почти всегда сводится у них к комментарию и популяризации, к ординарному профессорству, к исполнительству, к переводу, к переработке «по мотивам». Относительно литературы это доказывает сам сэр Исайя Берлин. (Правда, в другом повороте это и называется «культурой».) Шкловский написал о себе: «Я — полуеврей и имитатор». Если придерживаться такой пропорции, то окажется, что Эренбург — имитатор вдвойне. Поэтому понятна и законна подражательность его как писателя, то, что он сам назвал «обезьянничаньем».
«Галерею предков», установленную Тыняновым, можно и должно расширить. Почему-то он не назвал Замятина. Между тем, Замятин — писатель, в наибольшей, пожалуй, степени подвергшийся имитации Эренбургом. Замятин писатель весьма разностильный, и подражать ему, видимо, не надоедало. Есть у Эренбурга подражания «Островитянам» и «Ловцу человеков» (эта линия продолжается вплоть до очерков Англии в «Визе времени»: не Англия Эренбургу не понравилась, а длилась замятинская стилевая инерция), есть и другие, от Замятина «Уездного» и «Алатыря»: так написан, к примеру, рассказ «В розовом домике» из сборника «Неправдоподобные истории». «Жизнь и гибель Николая Курбова» тоже частично написана под Замятина, но в основном под Андрея Белого (ритмическая проза, доведенная до пародийности, даже вводящая рифмы: «Другие вздыхают — „Прекрасная Дама“ — туманы, и где-то в легчайшем зефире трепещет вырез нечаянной шеи. Была ему дамой машина, и нежно шептал он „динамо“»). Доходило до того, что Эренбург, этот остроумец с твердой репутацией, повторял замятинские остроты. Так, сравнение им писателей со слонихами и крольчихами, т. е. рожающими редко или часто, в речи на первом съезде писателей, взято из давней статьи Замятина («Закулисы»).
Подражал Эренбург, натурально, и французам, как классикам (Гюго — «Трубка коммунара»), так и современникам: роман «Лето 1925 года», например, списан с модных тогдашних новинок, взять хотя бы «Интернациональную Венеру» Пьера Мак-Орлана. Проекция его на литературу сразу же обнаруживает вторичность, даже несерьезность его как писателя, недаром статьи о нем Тынянова написаны, можно сказать, юмористически, вторая статья называется «200 000 метров Ильи Эренбурга». Название этой статьи указывает на кинематографическую «легкость» Эренбурга: он сам писал в мемуарах, что старался внести в прозу эстетику кино. Дело интересное, но и здесь он подражал: Блэзу Сандрару (см., например, рассказ «Акционерное общество Меркюр де Рюсси» в книге «Шесть повестей о легких концах»). Вспомним тут, кстати, еще одного «предка», названного Тыняновым — Диккенса. Под Диккенса написан роман «Любовь Жанны Ней», где по конторе сыщика бродит слепая девушка Габриель, эквивалент Поля Домби.
Сказанное не означает, что читать Эренбурга «не интересно», совсем нет! «Лето 1925 года», например, вещь очень нужная для понимания Эренбурга как человека. Но одновременно это — приговор литературе: когда со страниц романа лезет на вас автор, значит книга плоха, это закон. Читая Набокова, можно кое-что угадать в жизненных обстоятельствах автора (например, что «Зина Мерц» была любовницей «художника Романова»), но, во-первых, это ребус, далеко не всем понятный, во-вторых, вообще не имеет значения, потому что Набоков — художник, книги его представляют сверхличный интерес. Эренбург очень интересен как человек, и его книги многое в нем объясняют, но и только, они не существуют вне и помимо автора. Отсюда же — большая значимость у Эренбурга «философской системы», чем «галереи предков». Поэтому вернемся к «философии» — упомянутому Тыняновым Шпенглеру и не упомянутому Муратову.
В «Хулио Хуренито» Шпенглера как раз мало: роман был написан в большой спешке, сразу по приезде автора на послевоенный Запад, и если к тому времени он успел прочесть «Закат Европы», то вряд ли успел усвоить. Стопроцентно шпенглерианские книги Эренбурга — это «Трест Д. Е.» и, конечно, «А все-таки она вертится!» Шпенглерианство Эренбурга — чрезвычайно важная составляющая его духовного облика, то, что он пышно называл «верностью времени» (порой становившейся попросту мотивировкой для его оппортунизма).
«А все-таки она вертится!», однако, не историософский трактат, это эстетический манифест, гимн конструктивизму. Он вдохновляет, может быть, только одной фразой Шпенглера, но зато главнейшей у него: в наше время и важнее, и честнее изобретать авиационные моторы, чем писать маслом или сочинять метафизические системы. Многих (на время и себя) Эренбургу удалось убедить, что двадцатый век — великая культурная эпоха, обладающая главным признаком всех великих культурных эпох — единством стиля.
Может быть кое-кто из читателей вспомнит дискуссию, проведенную «Литературной газетой» в середине 60-х годов, — между реликтовым марксистом М. Лифшицем и будущим диссидентом Г. Померанцем — о модернизме в искусстве. Мы, приученные к немудрящим матюкам Никиты по адресу абстракционистов, были, помнится, приятно удивлены необычайной серьезностью и даже как бы аргументированностью выступления М. Лифшица против модернизма. Основной его тезис был: модернистское искусство — явление одного порядка с тоталитарным деспотизмом, оно есть функция тоталитарного общества. Факты, приводившиеся Г. Померанцем и свидетельствовавшие об обратном — о поощрении тоталитарными режимами художественно реакционных течений в искусстве, — как-то очень убедительно парировались М. Лифшицем, и чувствовалось, что он мог бы, дай ему волю, сказать что-то еще. Теперь мне ясно, в чем было дело и почему выступавший с «партийных позиций» М. Лифшиц казался столь убедительным: все его соображения родились из чтения старой эренбурговской книги, так сказать, случайно уцелевшей при обысках.
Это не значит, что сам Эренбург был против модернизма и что Лифшиц заимствовал у него негативные аргументы. Дело не в этом. Эренбург, воспевавший конструктивную красоту нашей эпохи, задним числом оказался пропагандистом тоталитаризма!
Несколько цитат в подтверждение сказанного (Эренбург перечисляет общие черты новой жизни и нового искусства):
Стремление к организации, к ясности, к единому синтезу. Примитивизм, пристрастье к молодому, к раннему, к целине. Общее против индивидуального. Закон против прихоти. Следовательно, не уходя в рамки какой-либо секты, можно с уверенностью сказать, что на Западе новое искусство кровно сопряжено со строительством нового общества, будь то: социалистическое, коммунистическое или синдикалистское.
Вот еще более выразительное высказывание:
3. Коллективизм. Синтетичность эмоций, образов, форм, ритма. Т. е. не интернациональное и демократическое, а антинациональное и антиаристократическое. Восприятие духовного аристократизма, эстетизма, избранничества, как скучной патологии. 4. Омоложение. Примитивизм, пожалуй, «варваризация», если это слово применимо к современным американцам, т. е., при усовершенствовании всей материальной культуры, упрощение психологии.
Отсюда бодрость и жизнерадостность, конец «изломам»… Борьба с загроможденностью не только психологической, но и философской. Разгром мозгов. Свежая струя идиотизма, влитая в головы читательниц Бергсона и Шестова.
(До войны). Последние рецидивы 19 века — теософия, неокатолицизм, Бергсон, Клодель, Бердяев etc. Лягушка-индивидуализм надувается донельзя: попытки сверхчеловеческого, кончающиеся в кабаках. Смутное томление о некой дисциплине. Кануны.