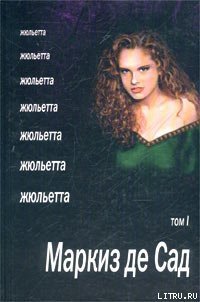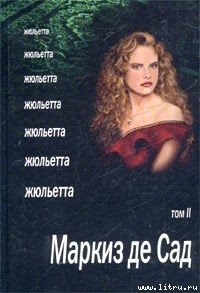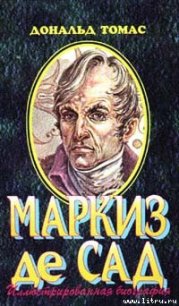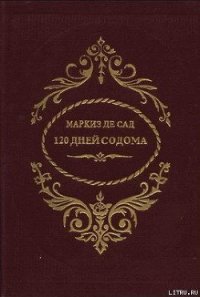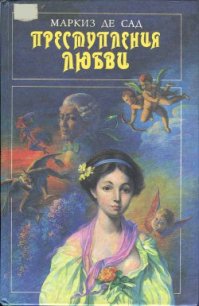Маркиз де Сад и XX век (сборник) - Лели Жильбер (книги бесплатно без .TXT) 📗
Когда видишь, как одна за другой следуют подобные формулы, говоришь себе, что в доводах Сада имеется некая лакуна, нехватка, безумие. Появляется ощущение глубоко разлаженной мысли, странно повисшей над пустотой. Но, вдруг, ее подхватывает логика, появляются возражения и мало-помалу образуется система. Жюстина, которая, как известно, представляет в этом мире добродетель, стойкая, смиренная, все время притесняемая и несчастная, но которую никогда не убедить в ее неправоте, внезапно заявляет чрезвычайно рассудительным образом: «Ваши принципы предполагают власть; ежели мое счастье состоит в том, чтобы никогда не принимать во внимание интересы других, делать им при случае зло, то неминуемо наступит день, когда интересы других потребуют делать зло мне; во имя чего буду я тогда протестовать?». «Может ли самоизолировавшаяся личность бороться против всех?». Классическое возражение, не так ли? Садовский человек отвечает на это и неявно, и явно — на множество ладов, мало-помалу препровождающих нас в самое сердце вселенной — его вселенной. Да, заявляет он прежде всего, мое право — это право власти. И в самом деле, общество Сада по сути состоит из весьма малого числа всемогущих людей, у которых оказалось достаточно энергии, чтобы возвыситься над законами и над предубеждениями, чувствующих себя достойными природы из-за тех отклонений, которые она в них заложила и которые всеми средствами ищут своего утоления. Эти несравненные люди принадлежат обычно к привилегированному классу: это герцоги, короли, это папа, тоже выходец из знати; они пользуются выгодами и преимуществами своего ранга, своего состояния, безнаказанностью, обеспечиваемой им их положением. Своему рождению они обязаны привилегией неравенства, усовершенствованием которой путем беспощадного деспотизма они и ограничиваются. Они самые сильные, поскольку составляют часть сильного класса. «Я называю Народом, — говорит один из них, — тот ничтожный и презренный класс, который может жить лишь трудясь и добывая хлеб в поте лица; все, что дышит, должно объединиться против его низости».
Однако, вне всякого сомнения, если чаще всего эти суверены разврата к своей выгоде концентрируют в себе всю полноту классового неравенства, то это не более чем историческое обстоятельство, в котором Сад не отдавал себе отчета в своих оценочных суждениях. Он в совершенстве распознал, что власть в эпоху, когда он писал, есть категория социальная, что она вписана в организацию общества, будь то до- или послереволюционного, но он к тому же верит, что власть (как, впрочем, и одиночество) — не только состояние, но выбор и завоевание, что лишь тот могуществен, кто сумеет стать таковым посредством своей собственной энергии. На самом деле его герои рекрутированы из двух противоположных кругов: самого верхнего и самого нижнего, из наиболее привилегированного класса и класса наиболее притесняемого, из великих мира сего и из самых низких подонков. И те, и другие в качестве отправной точки обнаруживают нечто предельное, что им и благоприятствует: предельность нищеты оказывается столь же мощной пружиной, как и головокружение от удачи. Когда являешься какой-нибудь Дюбуа или Дюран, восстаешь против законов, потому что находишься настолько ниже их, что просто не можешь им следовать и не погибнуть. А когда ты — Сен-Фон или герцог де Бланжи, ты настолько выше законов, что тебе нельзя им подчиниться и при этом не захиреть. Вот почему в произведениях Сада апология преступления опирается на противоречащие друг другу принципы: для одних неравенство есть природный факт, некоторые люди необходимо являются рабами и жертвами, у них нет никаких прав, они — ничто, по отношению к ним все дозволено. Отсюда и все его неистовые хвалы тирании, все политические установления, предназначенные сделать невозможным ни при каком раскладе реванш слабого и обогащение бедного. «Намерения природы таковы, — говорит Верней, — что в них непременно наличествует некий класс индивидуумов, в полной мере подчиненных другим по причине своей слабости и своего происхождения». — «Закон писан не для народа… Суть каждого мудрого правления — чтобы народ не захватил власть у сильных мира сего». И Сен-Фон: «Народ будет содержаться в рабстве, чтобы он никогда не смог посягнуть на владычество богатых или попытаться преуменьшить их собственность». Или еще: «Все то, что называют преступлениями либертинажа, может подвергаться наказанию лишь в рабских кастах».
Мы тут, вроде бы, оказываемся перед лицом самой безумной теории самого абсолютного деспотизма. Но вдруг перспектива меняется. Что говорит Дюбуа? «Всех нас природа породила равными; если року угодно расстроить этот первичный замысел общих законов, на нашу долю выпадет исправить его капризы и вернуть себе, используя всю нашу ловкость, присвоенное сильнейшими. В то время как наша добросовестность, наше терпение послужат лишь преумножению наших оков, преступления наши станут добродетелями, и мы были бы совсем простофилями, если бы отказались от них, чтобы чуть уменьшить взваленное на нас иго». И она добавляет: бедным одно только преступление открывает двери в жизнь; злодейство есть возмещение несправедливости, так же как кража — это месть неимущих. Итак, теперь ясно различаешь: равенство, неравенство, свобода угнетения, восстание против угнетателя — всего лишь чисто временные аргументы, которыми, следуя различию в социальном статусе, утверждается право садовского человека на власть. Вскоре, к тому же, разница между теми, кому преступление необходимо, чтобы существовать, и теми, кто наслаждается существованием лишь посредством преступления, стирается. Дюбуа становится баронессой. Дюран, низкопробная отравительница, возвышается над княгинями, которых Жюльетта без колебаний приносит ей в жертву. Графы превращаются в главарей банд, в разбойников или же содержателей постоялых дворов, чтобы лучше обирать и убивать простаков. И наоборот, большинство жертв либертинажа выбраны среди аристократии, нужно, чтобы они были благородного происхождения, и именно графине, своей матери, возвещает с высокомерным презрением маркиз де Брессак: «Твои дни принадлежат мне, ну а мои священны».
Ну и что же теперь происходит? Несколько человек стали могущественными. Некоторые были таковыми по праву своего рождения, но они показали, что заслуживают этого могущества тем, что его приумножили и им наслаждались. Другие таковыми стали, и знаком их успеха служит то, что, прибегнув к преступлению, чтобы стяжать власть, они пользуются этой властью, чтобы снискать свободу для всех преступлений. Таков этот мир: несколько существ, вознесшихся выше всего, — и вокруг них, до бесконечности, безымянная и бесчисленная пыль индивидуумов, не имеющих ни прав, ни власти. Посмотрим, что же происходит тогда с правилом абсолютного эгоизма. Я думаю так, как мне нравится, говорит герой Сада, я знаю только свое удовольствие; чтобы его обеспечить, я мучаю и убиваю. Опасность подобной же участи грозит и мне — в тот день, когда я встречу кого-либо, кому для полного счастья будет необходимо меня помучить и меня убить. Но я как раз-таки и обрел власть, чтобы подняться над этой угрозой. Когда Сад предлагает нам ответы подобного толка, мы отлично чувствуем, как соскальзываем к какой-то стороне его мысли, которая держится лишь на темных силах, его мыслью скрываемых. Что же это за власть, которая не боится ни случайности, ни закона, которая высокомерно подвергает себя ужасному риску, выраженному в формуле: я причиню вам любое зло, какое только захочу, причините мне любое зло, какое только сможете, — под тем предлогом, что эта формула всегда обернется ей на пользу? Ведь, отметим это, чтобы рухнули принципы, достаточно единственного исключения: если единственный раз носитель власти натолкнется на неудачу в поисках единственного своего удовольствия, если в осуществлении своей тирании он хотя бы раз станет жертвой, он пропадет, закон удовольствия окажется обманом, и люди, вместо того, чтобы стремиться к триумфу через излишества, вновь начнут свою посредственную жизнь, беспокоясь о малейшем зле.