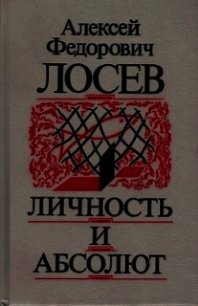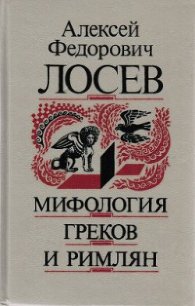Из разговоров на Беломорстрое - Лосев Алексей Федорович (электронные книги бесплатно .txt) 📗
- Это - философия вредительства! - раздались голоса - Вас нужно изъять.
- Власти думают иначе, - бойко отвечал оратор. - Лучше Канал с фокстротом, чем ортодоксальное благонравие без Канала.
- Да кто же, по-вашему, строит-то Канал? - запальчиво спросил я.
- Гнилая интеллигенция! - был ответ.
- Которая живет по способу фокстрота?
- И проводит политику партии!
- А рабочие?
- Рабочие на Канале - или шпана или колхозники. Первые жили всегда фокстротно, а вторых - мы научили теперь
- Слушайте, товарищ, - уже не улыбаясь и без дружеских нот заговорил Абрамов - Если бы я близко вас не знал и если бы я действительно думал, что вы потеряли пухленькую женку и купончики и втянуты в чуждое вам строительство и что от этого-то и зависит ваш энтузиазм, ваш фокстротный романтизм, я... я бы на вас донес. Я бы сделал мотивированное донесение о вашем вредительстве и агитации. Ведь это же дико! Это - чудовищный цинизм и разложение!
Тот, пожимая плечами, разводил руками, вздыхал и - улыбался в ответ.
- Ведь это не ваши взгляды.. - бормотал я себе под нос. - Это - ваш философский анализ...
Оратор продолжал пожимать плечами и улыбаться.
- Факт на лицо, - сказал он - Буржуазия, контрреволюционная, разложившаяся, гнилая интеллигенция - строит первый по размерам в мире Канал, строит в полтора года 11 шлюзов, 18 плотин, 40 дамб, 200-верстный водный путь среди непроходимых лесов, болот, гор - во славу мирового коммунизма.
- Да неужели же вы думаете, - набросился я, - что это возможно только в результате физического принуждения7
- Но разве я говорил о физическом принуждении? Наоборот, я говорил о романтизме. А ведь всякий романтизм есть, прежде всего, воодушевление.
- Но ваш романтизм есть романтизм разврата; это - энтузиазм, родственный алкоголизму, эротомании и пр.
- Да чего же вы, в самом деле, хотите от нас, от всех, кто строит Канал? - оживленно возражал оратор. - Ведь вы же не утопист?
- Я не утопист.
- А тогда - как же вы можете думать, что вся эта бездомная, размагниченная орава, оторванная революцией от родных домов, от семьи, от элементарного человеческого уюта, вся эта разноголосая, растрепанная масса людей и людишек, выбитая из своей колеи, потерявшая свою идею и свой путь и волею истории пересаженная в несколько лет из тысячелетней азиатской деспотии в активный коммунизм, - как же вы можете думать, что она и всерьез настроена коммунистически? Я не понимаю, как, по-вашему, она должна себя вести и чувствовать?
- Но вы сейчас это так расписали, - сказал я, - что у вас не получится даже и фокстротного романтизма, а получится только эксплуатация негров в Америке.
- А вот тут-то вы и ошибаетесь. Эта масса вовлечена в огромную стройку и заражена энтузиазмом.
- Энтузиазмом разврата?
- Энтузиазмом строительства в условиях внутреннего опустошения духа после революционных потрясений.
Я замолчал.
В комнате тоже все что-то смолкли. На несколько мгновений воцарилась какая-то подозрительная тишина.
- Ах, надоели эти панихиды! - заговорил еще один, уже последний оратор из неговоривших, девица-чертежница отказалась говорить.
- И все вы, товарищи, ноете, все вы кого-то отпеваете. Ведь это же заупокойный вопль, что мы сейчас слышим. Давайте я вам скажу что-нибудь повеселее. Тем более я - последний из неговоривших.
- Но мы ведь еще не ответили на предыдущую речь, - сказал Абрамов.
- Пусть говорит Борис Николаевич, - ответил я, указывая на нового оратора. - На предыдущую речь мы с вами еще ответим.
Борис Николаевич, инженер-механик и большой любитель художественной литературы, произнес следующее:
- Я не хотел говорить, потому что был вполне уверен в банальности своего взгляда. Я думал, что его выскажут прежде всего. Но вот больше уже некому говорить, а взгляд этот не только никем из говоривших не был намечен, но проповедовалось такое, что в корне его исключало. Однако сейчас, после того, как здесь было высказано столько умных слов, я тоже постараюсь этот банальный взгляд облечь в возможно более умные формы, хотя, впрочем, потребность в этих последних у меня более глубокая и, должен признаться, не все тут продумано мною до конца.
Вы, товарищи, забыли о самом главном. Вы забыли о самих сооружениях, о произведениях техники. Говорили о технике психологически, говорили этически, говорили социологически и даже политически, но ровно же никто из нас и ни одним словом не коснулся техники эстетически, художественно, никто не рассмотрел техники с точки зрения самих же сооружений.
Конечно, эта точка зрения вполне банальная. Все восхищаются или делают вид, что восхищаются произведениями технического искусства. Вошло в обычай восторгаться успехами технического прогресса, и тон приподнятого чувства и восторженного излияния - обычный итог всех писаний на этот счет в течение, кажется, нескольких столетий. Однако эту банальность я хотел бы несколько углубить, исключивши из нее - на время, по крайней мере, - лирику и развивши в ней мыслительную основу. Это, конечно, легко сделать, превративши свою оценку технического произведения в чисто научное, научно-техническое же обследование. Но я хочу углубить художественное содержание технического произведения в направлении не формалистическом, но, если можно так выразиться, философском.
Я исхожу из простейшего факта художественности всякого подлинного произведения техники. Разве техника не есть искусство? Разве паровая машина, динамо-машина, дизель - не красота? Разве аэроплан, дирижабль, электровоз - не есть что-то красивое, сильное, мощное, мудрое и глубокое? Не будем впадать в экзальтацию, в болезненные преувеличения и в противоестественные восторги. Кто-то из старых футуристов говорил, что шум автомобиля прекраснее поцелуя женщины. Поэты-урбанисты и даже музыканты воспевали в стихах и в симфонических поэмах автомобили, аэропланы, разные моторы. Это все - бездарность. Поцелуй женщины есть поцелуй женщины, и никаким автомобилем его не заменишь. Поэты и музыканты также имеют и всегда будут иметь предметы, более достойные для воспевания, чем бензиновые двигатели. Но, отбросивши все эти загибы и преувеличения и отнесясь к делу максимально трезво и здраво, мы все же должны сказать: техника, это красота. Посмотрите, как работает хотя бы пишущая машина. Попробуйте всмотреться в детали - ну, хотя бы какого-нибудь музыкального инструмента посложнее, вроде фортепиано или пианино. Да, наконец, вдумайтесь в эту, в конце концов простейшую аппаратуру - радио. Разве вы не находите здесь тончайшей мысли, воплощаемой в изощренную материю? При всем утилитаризме и практицизме этих вещей, - разве вы не ощущаете величие свободного, незаинтересованного творчества на этих вещах, какую-то божественную игру духовных сил человека, ничуть не меньшую, чем любая большая симфония или поэма? Вы посмотрите, как тонко высчитана и прилажена каждая малейшая часть механизма, как не упущен ни один облегчающий момент, как нет здесь ничего лишнего, как все движется гладко, свободно, непринужденно, естественно, легко. Тут говорили, что техника хочет поставить механизмы на место организма. По этому поводу была отслужена обычная для наших философов панихида и начались надгробные рыдания. Но к чему все эти перипетии, весь этот исторический гиперболизм? Всякому здоровому сознанию ясно, что никакой механизм никогда не заменит организма и что техника вовсе и не ставит себе таких задач. Техника принизила и обесценила бы свои собственные произведения, если бы стала так рассуждать. Организм - организмом, и в нем своя специфическая красота, но не мешайте и механизму быть механизмом и не отнимайте у него ту красоту, которая для него специфична и которая только в нем и имеется.
Есть, однако, некоторая правда в тех словах, когда говорилось, что в технике механизм хочет стать на место организма. Но только правда эта не в том механическом сатанизме, который убивает все живое, а в том, что механизм, взятый сам по себе, есть как бы нечто живое, то самородное, мудрое, наивное, глубокое, что составляет сущность всего живого. Не в том смысле здесь жизнь, что механизм должен все поглотить и превратить действительность в безжизненную схему. Повторяю, жизнь нельзя ничем заменить, и - тем более нельзя ее заменить механизмом и техникой, да техника и бесконечно далека от этих задач. Но в механизме есть своя механическая - жизнь, свое неподдельное, рождающее лоно бытия, откуда истекает его красота, как из поэтического волнения рождается художественный образ. Всякий механизм - прекрасен как произведения гения, как осуществление вечной мечты, как игра свободного духа с самим собою, наивная и глубокая, так что я бы сказал, что тут есть нечто божественное, божественно-прекрасное, нечто олимпийское, некий вечный пир улыбчивых, счастливых античных богов.