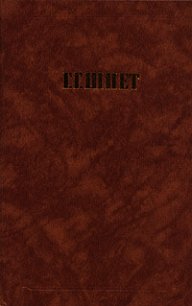Сочинения - Шпет Густав Густавович (книги читать бесплатно без регистрации .txt) 📗
Стоит того, чтобы напречься и в самом деле «представить» себе, «воспроизвести», нарисовать «картину» при восприятии поэтических образов: «Горные вершины спят...», «хоры звездные светил...», «души успокоенной море», «ненасытной ночи мгла По небу стелется одеждою свинцовой», «взбесилась ведьма злая И, снегу захватя, Пустила, убегая, В прекрасное дитя» и т. д. без конца. Стоит поста
Эстетические фрагменты
451
раться о сказанном, чтобы раз и навсегда убедить себя в том, что если какие-нибудь «картины» перед нами и возникают, то они играют такую же роль в эстетическом восприятии поэтического слова, какую они играют в понимании научной или обыденной речи. Как «представление» понятия задерживает понимание и мешает ему, так оно задерживает эстетическое восприятие слова и мешает. Если «представления» вообще тут появляются и сопровождают поэтическое восприятие, то как нечто побочное, ек parergou, несущественное.
Образ как внутреннюю форму поэтической речи и как предмет «воображения», т. е. надчувственной деятельности сознания, ни в коем случае недопустимо смешивать с «образами» чувственного восприятия и представления, «образами» зрительными, слуховыми, осязательными, моторными и т. п. Другое, еще более существенное различие образа-формы и образа-картины — в том, что форма, раз она создана, она существует одна для всякого ее воспринимающего, для самого поэта та же, что для слушателя или читателя, будь он Потебня, или иной профессор, или учитель словесности, или просто недоучка. Представления же «картины», вызываемые у них этою формою, у всех разные, и даже у каждого из них о них разные в разные случаи их обращений к этой форме, как разны у них и эстетические наслаждения этою формою. Слово значит, обозначает значение, смысл, в данных внутренних формах, логических и поэтических,—значит, и это значение объективно есть. «Представление» же слова не значит, представление словом только вызывается, пробуждается. Значение так-то оформленное — одно, представлений — множество, хотя бы и они были об одном предмете. Конечно, одно и то же содержание, мысль, может быть выражено в разных формах, но каждое выражение— предметно и как такое постигается не через представление, как и некий единый предмет самого представления постигается не через представление, а лишь по поводу его.
Образность речи не есть, скажем, зрительная красочность, или контурность, или что-либо подобное, не есть вообще зрительная или иная чувственная форма, а есть некоторая схема, предметно коррелятивная воображению, как акту не чувственному, а умственному. Со стороны распространенного понимания «ума» и «умственного» освещается еще раз источник ошибок отожествления «образа» и «картины». Никак не могут освободиться от сенсуализ
452
ма, заставляющего все, что не есть «рассудок», сваливать в одну кучу с «чувством». Вместе с тем и само мышление суживают, ограничивая его функции познанием. Сужение — произвольное. Воображение, медитация, «размышление» — не познавательные умственные акты, точно так же, как «мышление эмоциональное», эстетическое, религиозное — не познание, но и не чувствование. В основе поэтического образа лежат акты, которые могут иметь и познавательное значение, но, вот, оказывается, имеют и поэтическое, и эстетическое значение. Таковы, например, акты сравнения, сопоставления, группировки, контрастирования, параллелизации и пр < оч. > .
В целом ряде умственных актов мы приходим к построениям, которые являются в некоторых отношениях аналогами познания, но не составляют его в строгом и собственном смысле. Если последние в своем закономерном течении вызывают, фундируют своего рода интеллектуальные эмоции, интеллектуальное наслаждение, то эстетическое наслаждение, фундированное игрою поэтических образов, можно рассматривать как аналогон интеллектуального наслаждения. Красота не есть истина, и истина не есть красота, но одно есть аналогон другого. Есть своя эстетическая прелесть и привлекательность в новизне, яркости и смелости сопоставлений, в неожиданном выходе из привычной «сферы разговора», в приведении к совпадению двух разных кругов темы и т. п. Я не ставлю себе здесь задачи входить в анализ самого эстетического сознания красоты в поэзии, ограничиваясь формальными расчленениями предметной основы эстетического поэтического восприятия. И с этой точки зрения придаю указанному аналогону немаловажное значение.
Подобно логически оформленному термину, перенесение образа из одного контекста в другой вызывает перемену в его эстетическом толковании и понимании. Образ требует своей точности. Контекст его модифицирует, и он влияет на образование контекста. Есть немало случаев «цитирования» поэтом поэта, причем это не есть простая вставка в свое стихотворение строки или образа из стихотворения другого поэта, а есть нередко новое quasi-логическое — «поэтическое» — развитие самого образа.
Поверили глупцы, другим передают; Старухи вмиг тревогу бьют— И вот общественное мненье, И вот та родина!...
(Грибоедов)
Эстетические фрагменты
453
Конечно, быть должно презренье Ценой его забавных слов; Но шепот, хохотня глупцов... И вот общественное мненье!
(Пушкин)
Интереснее, пожалуй, другие случаи, когда образ принуждает к выбору точного выражения. Например, Пушкин пишет:
В пустыне тощей и глухой, На почве, зноем раскаленной, Анчар, как грозный часовой, Растет, один во всей вселенной,
и поправляет: «чахлой и скупой» и «стоит». Первая поправка придает образу силу: едва ли здесь поправка вызвана мотивами чисто звукового преимущества одних эпитетов перед другими. «Тощая и глухая» «пустыня» так обычно, что идет как бы за одно слово, внутренняя конструкция как бы исчезла, стерлась, fundamentum comparationis не ощущается. «Чахлая» — уже ярче и свежее, а «скупая» — уже поразительно ярко, неожиданно, fundamentum comparationis прямо-таки осязается. И кстати к предыдущему: чем, например, в зрительном образе-представлении отличается пустыня вообще от пустыни глухой, а обе они — от пустыни скупой?..
Но «стоит» вместо «растет» прямо вызвано логикою самого смысла образа. «Анчар» растет, но «часовой» стоит. Сравнение заставляет изменить выражение самого предмета; оно как бы вносит с собою требование нового контекста и нового «положения» вещей, а контекст образа поправляет контекст логики, в которой была «подана», «пришла» мысль. Что здесь дело не в «зрительности», ясно из создавшегося «зрительного противоречия»: часовой — «один во всей вселенной», но схема, внутренняя поэтическая форма от этого не страдает. Не страдает также она и оттого, что дальнейшее описание в пьесе также «противоречит» вводящему образу «часового» («Яд каплет сквозь его кору... К нему и птица не летит, И тигр нейдет...»—т. е. к тому, что «растет», а не к тому, кто «стоит»). Дело не в зрительности, а в sui generis общности, т. е. в мысли и в умственном созерцании, а не чувственном. Эту общность я уже имел случай обозначить как «типичность», подбор характерного признака на место (логиче
454
ски) существенного. Типическое положение, достигаемое через сравнение, например, выступает как характеристика не только данного, изображаемого положения, но и сходных. Сходство не есть предмет чувственного восприятия или представления. Какое-нибудь «солнце — око» — типическое положение, а не зрительный «образ» (ибо «чье» око — судака или рака? да и око судака, рака или совы—понятие и образ, а не «картина»: nature morte, портрет, пейзаж, иллюстрация к Брему). Понятно в этом аспекте и то, как само слово из «знака» вообще, произвольно применяемого, становится символом, т. е. канонизированным образом. Понятно и само становление в свете умственного поэтического творчества.
Невзирая на ясность, в общем, отношений, определяющих «образ» как внутреннюю поэтическую форму, часто повторяются указания, что зрительные образы действительно сопровождают восприятие поэтического слова. Но раз существенной связи между ними нет, то эта прибавка должна быть относима не на счет природы самой формы, а исключительно на счет воспринимающего индивида. У одних индивидов зрительное представление может способствовать яркости восприятия и эстетичности его переживания, но у других оно может безусловно служить помехою. Такую же роль играют и вообще вспыхивающие у индивида, по индивидуальным причинам, сопровождающие прямое восприятие «ассоциации», хотя именно им иногда психологическая эстетика (Фехнер) пыталась приписать определяющую роль и на них переносила эстетическую ответственность за воспринимаемое. Равным образом, и чувственный тон, сопровождающий эти побочные для существа дела, но родные и интимные для индивида представления и ассоциации, не обязательно есть тон эстетический. Могут иметь место и «волнения» другого рода, внеэстетические и неэстетические, в общем также то затрудняющие эстетическое переживание, то благоприятствующие ему. Каждый индивид мог бы или должен бы составлять на этот предмет свое личное эстетическое уравнение и с его помощью вносить поправку в субъективное переживание, возвращая ему его объективно-предметное значение.