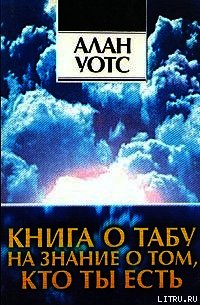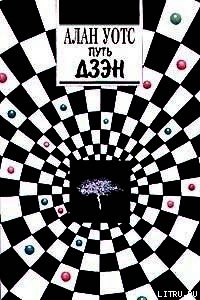Космология радости - Уотс Алан (читать книги полностью .TXT) 📗
Все глубже и глубже, но внезапно на свободу — на свободу из этих космических лабиринтов, на свободу, чтобы осознать, что я, ослепленный путешественник, в глубине своей тождественен забытому, но столь знакомому, вызывающему к жизни целый мир, изначальному импульсу, высшему единству, сокровенному свету, естеству, которое есть в большей мере мое “я”, нежели я сам. Стоя в саду Эллы, я пребываю в глубочайшей безмятежности, передающейся всему миру, и чувствую, что наконец-то я прибыл, наконец-то я вернулся в свой подлинный дом. — знаю, что, сам того не подозревая, унаследовал сокровище, завещанное мне предками в самом начале времен. Основа и уток этого мира звучат эхом торжественных гимнов, подобно струнам арфы. Незыблемое основание, в котором я желал утвердиться, оказалось центром, направляющим мои поиски. Неуловимая субстанция, из которой соткана вселенная, теперь обнаруживается в каждом движении моей руки. Как мне вообще удалось потеряться? Зачем мне понадобилось так долго путешествовать по запутанным туннелям, чтобы стать трепещущим сгустком защищающейся защиты — своим повседневным “я”?
Войдя в дом, я обнаруживаю, что вся комнатная мебель жива. Все вокруг подает мне знаки. Столы столятся, посуда посудится, стены стенятся, арматура арматурится — все это события, а не вещи. Роберт включает магнитофон, не сказав мне, что должно зазвучать. Внимательно глядя на картинящуюся картину, я постепенно начинаю осознавать музыку и поначалу не могу понять, звучит ли это музыкальный инструмент или же человеческий голос. Есть только один вьющийся, переливающийся и тянущийся небольшими сгустками поток звука, который оказывается в конце концов звучанием духового инструмента, напоминающего гобой. Затем к нему добавляются человеческие голоса. Однако они поют не слова, а только отдельные звуки типа “Бюо-бюа-бюи”, которые, кажется, представляют собой все возможные созвучия, доступные человеческому голосу. Что там у Роберта записано? — решаю, что это, должно быть, запись одной из тех вечеринок, на которых его странные друзья распевают всякую бессмыслицу.
Со временем пение переходит в утонченные и изысканные трели, перемежающиеся восхитительным бормотанием, хрюканьем, угуканьем, хихиканьем — все это, очевидно, лишено какого-либо смысла и поется из чистого удовольствия. Затем наступает пауза. Голос говорит: “Дит!”, другой словно отвечает ему: “Да!”. Затем “Дит! Да! Ди-дитти-да!” Потом они начинают звучать быстрее: “Да-ди-дитти-ди-дитти-да! Ди-да-ди-дитти-дитти-да-ди-да-ди-дитти-да-да!” Так продолжается до тех пор, пока, как мне кажется, играющие не начинают сходить с ума. На коробке, которую мне показывает Роберт, написано: “Классическая музыка Индии”. Роберт также говорит мне, что эта запись сделана Алейном Данилоу, которого я всегда знал как самого серьезного, эзотерического и ученого знатока индусской музыки, исповедующего, вслед за Рене Гуэноном и Анандой Кумарасвами, самую формальную, традиционную и заумную интерпретацию йоги и веданты. Почему-то я никак не могу согласовать Данилоу, этого пандита из пандитов, с этим бредовым подражанием человека птичьему пению. — чувствую, что меня разыгрывают. Или, возможно, разыгрывают Данилоу.
Но вполне может быть, что это и не так. О конечно же, это не так! Совершенно внезапно я чувствую, как мое понимание становится необычайно ясным, словно все в моем естестве, а также в самом пространстве-времени, в один миг разверзается до самих своих оснований. Меня переполняет ощущение, что мир совершенно очевиден. — недоумеваю, как я или кто-либо другой могли раньше считать жизнь проблематичной или таинственной. — прошу всех собраться возле меня.
“Слушайте, есть одна вещь, которую я вам должен сказать. — никогда еще, никогда не видел ее так ясно, как сейчас. Однако не имеет ни малейшего значения, понимаете вы меня или нет, потому что каждый из вас вполне совершенен в своем теперешнем облике, даже если вы не подозреваете об этом. Жизнь, по своей сути, является действием, однако никто и ничто не совершает его. Для него нет никакой необходимости случаться ни сейчас, ни в будущем. Это действие движения, звучания и цвета, и подобно тому, как никто не совершает его, оно не случается ни с кем. Проблем жизни просто не существует. Жизнь — это всецело бесцельная игра, цветение, смысл которого в нем самом. В основе всего лежит действие. Время, пространство и множественность — его усложнения. Не существует никакого смысла его объяснять, поскольку объяснения — это еще одно усложнение, еще одно проявление жизни над самой жизнию, действия над действием. Боль и страдания — это крайние проявления игры, но, по большому счету, во вселенной нечего бояться, ведь, что бы ни происходило, оно ни с кем не происходит! Никакого эго вообще не существует. Эго напоминает кувырок, знание о знании, страх перед страхом. Этот причудливый завиток, еще одно необычное ощущение, нечто типа отдачи или эха, напоминающего непостоянство сознания, как и при беспокойстве”.
Разумеется, когда я говорю, что жизнь — это всего лишь действие, деяние без действующего, пострадавшего и цели, мои слова звучат скорее тщетно и безнадежно, нежели радостно. Однако мне кажется, что эго — субстанциональная сущность, подвергающаяся воздействию переживаний, — это скорее минус, нежели плюс. Это отчуждение от переживаний, неполное участие в них. Тогда как в этот момент я чувствую себя полностью с миром, свободным от хронического противостояния переживаниям, поскольку это противостояние блокирует свободное течение жизни и делает наши движения похожими на движения закрепощенных танцоров. Однако мне не нужно преодолевать это сопротивление. — вижу, что источник сопротивления — эго — является еще одной неотделимой от общего потока волной на его поверхности, и что на самом деле никакое сопротивление невозможно. Нет позиции, занимая которую можно противостоять жизни и действовать вопреки ей.
Я снова выхожу в сад. Колибри порхают то вверх, то вниз в своем брачном танце, словно за кустами кто-то сидит и управляет ими. На стол подают фрукты и вино. Передо мной лежат апельсины — творения солнца, созданные по его образу, будто дерево отдало ему дань за полученное тепло. Затем я смотрю на бледно-зеленые, желто-зеленые листья деревьев, которые помню со времен раннего детства в рощах Кента, где распускающиеся весной почки рассыпаны по серым ветвям в клубящемся тумане. За ними стволы, ветки и сучья кажутся водянисто-черным фоном для освещенной солнцем листвы. Кусты фуксий — это хитросплетение стеблей, по которым разбросаны тысячи красных балерин в пурпурных юбках. А за ними возвышается до сумеречного неба роща исполинских эвкалиптов с их колышущейся массой отдельных вытянутых листьев. Все здесь напоминает мелодичную бессмыслицу и самоотверженное вокальное искусство индусских музыкантов.
Я вспоминаю слова из древнего тантрического писания: “Яко волны приходят с водой, а пламя с огнем, так мировые волны приходят с нами”. Действия действий, волны волн — листья превращаются в гусениц, трава в коров, молоко в младенцев, тело в червей, земля в цветы, семена в птиц, кванты энергии в пестрые колышущиеся лабиринты мозга. И везде этот бесконечный экстатический космологический танец сопровождают тяжелые низкие полутона страданий: зубы, жующие чуткие нервные окончания; внезапно жалящая змея в полевой траве; быстрое падение лениво кружившего ястреба; ноющие мышцы лесоруба; бессонные ночи, проводимые за заполнением бухгалтерских книг, как того требует выживание в цивилизованном обществе.
Как непривычно естественно видеть, что боль — больше не проблема! Ведь боль вызывает затруднения только тогда, когда самосознание блокирует мозг и заполняет его коридоры повторящимся эхом — отвращение к отвращению, страх перед страхом, содрогание от содрогания, вина из-за вины — искаженные мысли, пойманные в круги бесконечных повторений. В своем обычном сознании человек живет подобно тому, кто пытается говорить в помещении с очень чутким эхом; он может чего-нибудь добиться только в том случае, если упорно игнорирует постоянное звучание отражений собственного голоса. Ведь в мозге существуют эха и повторящиеся образы всех уровней ощущений, мыслей и чувств, продолжающие звучать в катакомбах памяти. Трудность в том, что, принимая за разум обычные воспоминания, мы рассматриваем отдельные сообщения из этого хранилища информации как осмысленные комментарии к тому, что делаем в текущее мгновение. Так же как и от избытка спиртного, от избытка самосознания мы начинаем чувствовать, что двоимся, и принимаем этот двоящийся образ за два различных своих “я” — ментальное и материальное, контролирующее и контролируемое, благоразумное и спонтанное. Так, вместо того, чтобы просто страдать, мы страдаем от страдания, а затем страдаем от страдания от страдания.