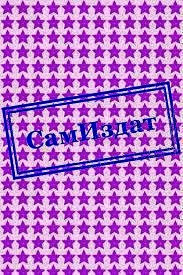Зло и свобода. Рассуждения в связи с «Религией в пределах только разума» Иммануила Канта - Капустин Борис Гурьевич (полные книги TXT) 📗
«Перспектива человека» обусловливает то, что свободу (человека) можно найти только в гетерономии, что гетерономия не антитеза или антипод свободы, а форма, модальность, условие существования свободы, поскольку она может быть свободой человека [121]. По сравнению с тем, что написано в «главных» этических произведениях, это тянет на революцию в этике Канта.
Попутно отметим, что некоторые предзнаменования этой революции можно обнаружить уже в самих «главных» этических произведениях. Так, в «Критике практического разума» мы находим чрезвычайно любопытное определение добродетели как «морального образа мыслей в борьбе» [122]. «Моральным состоянием человека» оказывается именно борьба, а отнюдь не «мнимое обладание полной чистотой намерений воли», само допущение возможности которого (в виде «святости») означает впадение в претенциозный и пагубный «этический фанатизм» (sic!) [123]. Получается, что если думать, будто «Основы» написаны о нравственности человека и «в перспективе человека» (как данную работу трактует либеральная «гуманистическая» интерпретация этики Канта), то можно прийти к выводу, что Кант сам в этой книге занимался пропагандой отвратительного «этического фанатизма» (уже потому, что «святая воля» ничем по сути не отличается от «свободной воли», практического разума и всех остальных элементов той серии «подобий», о которой мы говорили в предыдущей главе). Однако затем он вдруг решает дезавуировать собственную пропаганду и начинает разоблачать «этический фанатизм».
Конечно, отвергая «гуманистическую» интерпретацию «Основ», мы никогда не сделаем такое предположение и увидим в приведенном определении добродетели, напротив, некий ранний всполох той моральной философии «в перспективе человека», развернутое представление которой Кант попытается дать в «Религии». Однако уже сейчас зафиксируем то главное для «перспективы человека», что высветил этот ранний ее всполох: философия морали о человеке и для человека (а не о «разумных существах» и для «разумных существ») может быть только философией борьбы, философией свершения трудных актов выбора, а отнюдь не философией безусловного подчинения воли моральному закону [124].
Кантовскую «Религию в пределах только разума» можно прочитать как решительную реабилитацию Творения (и соответственно Творца). Ничего «злого» в «природных» склонностях и побуждениях человека как таковых нет. Не они сами по себе противостоят моральному закону, и он не может и не имеет права «назначать» их в качестве «злых». «…Основание злого, – пишет Кант, – находится не в каком-либо объекте, который определяет произвол через влечение, и не в каком-либо естественном побуждении, а только в правиле, которое произвол устанавливает себе для применения своей свободы, т. е. в некоторой максиме» [125]. Не Творение само по себе, а наш свободный выбор в пользу того отношения к Творению (отношения, выражающегося в принимаемом нами правиле), которое противоречит соблюдению морального закона, есть зло. В этом смысле мы выбираем быть злыми.
Конечно, этим сразу решается проблема ответственности (за злые максимы и поступки) и вменяемости, с которой не справились «главные» этические сочинения Канта. Но присмотримся к тем условиям, которые позволили Канту решить ее в «Религии», чтобы понять и оценить, насколько удачным можно считать предложенное решение этой проблемы.
Первое, что обращает на себя внимание, – это то, что моральный закон из абсолютного монарха, безоговорочно повелевающего свободной волей, превращается, так сказать, в выборного президента. Лишь только если мы выбираем моральный закон, кладя его в субъективную максиму поступков, он будет вести нас по стезе добродетели. В противном случае у него не будет власти над нами. Ведь не только чувственные побуждения, но и «чистый моральный образ мыслей» не воздействует на нас «прямо». «…B определении наших физических сил через свободный произвол, выступающий в действиях, [мы] можем действовать как вопреки закону, так и в его интересах…» [126].
Однако не все так просто. Создается впечатление, что в кантовской «Религии» моральный закон и до его избрания нашим «президентом» имеет некоторую власть над нами. Он имеет власть устанавливать различие между добром и злом, власть отождествлять себя с первым, а неповиновение себе – с последним. Он имеет власть определять характер самого нашего выбора, причем этот выбор воистину является «предложением, от которого невозможно отказаться», цитируя бессмертную фразу из «Крестного отца» Марио Пьюзо. Как убедительно показывает Онора О’Нил, суть любого принуждения, тем более – искусного принуждения, заключается в том, чтобы поставить нас в ситуацию неизбежного выбора, тогда как показателем действительной свободы является возможность отказаться от «предложенного» выбора совсем [127]. Кантовская «Религия» ясно дает понять, что уйти от выбора, определенного моральным законом, мы никак не можем. Очевидно, что свободная воля (Willkür), выбирая «первое субъективное основание максим» (Gesinnung) между подчинением моральному закону (добром) и отступлением от него в пользу чувственных побуждений (злом), не столь уж свободна, как ее изображает Кант, – она изначально подчинена моральному закону самой неизбежностью выбора и его конкретными параметрами (между чем и чем нам приходится выбирать). Таким образом, даже не будучи законно избранным «президентом», моральный закон уже в состоянии «назначать» добро (себя в качестве добра) и зло (любое неповиновение себе), а также делать выбор обязательным, и Кант лишь констатирует это обстоятельство, заявляя, что «моральный закон предшествовал здесь [в ситуации выбора] как запрет» (курсив мой. – Б. К.) [128].
Внимание исследователей уже привлекло то обстоятельство, что в тех местах «Религии», в которых Кант рассуждает о «предшествовании» морального закона выбору, который вроде бы свободно делается в пользу этого закона, он обильно использует образы и тропы Священного Писания. Гордон Майкелсон метко назвал их «образными заполнителями концептуальных лакун» [129]. И действительно, у Канта нет никаких теоретических ресурсов, позволяющих объяснить то, каким образом мы оказываемся уже подчинены тому, подчинение чему еще только должны, точнее – можем, свободно избрать. Не говоря уже об объяснении того, чего стоит (похожая на мнимую) свобода такого выбора. Здесь и выступает на первый план метафорика Адама, в котором «все согрешили и теперь грешим» и который необъяснимым образом «начал с сомнения в строгости заповеди, исключающей влияние всякого другого мотива, а затем умствованиями (sic!) низвел повиновение ей… до чисто условного средства, из-за чего в конце концов в его максиме чувственные побуждения получили перевес над мотивами из закона, и таким образом стал грешить» [130].
Конечно, «сомнения» и «умствования» Адама, которым он предавался до того, как вкусил от «древа познания», превращают это рассуждение в своего рода философскую шутку, и только безудержный просветительский пыл критиков Канта мог принять ее за его «уступку» ортодоксальной религиозности [131]. Однако для нас гораздо интереснее те философские проблемы, которые отчасти обнажаются, а отчасти скрываются такой библейской метафорикой.