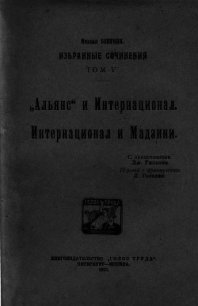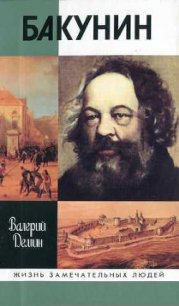Анархия и Порядок - Бакунин Михаил Александрович (читать книги без регистрации полные TXT) 📗
То же самое движение повторяется и в указании единичного здесь. Это здесь имеет свой верх, свой низ, свою правую и левую стороны, которые, в свою очередь, имеют свой верх, низ и т. д., так что указываемое здесь есть не как единичное и непосредственное, но как пространство вообще, как простая и всеобщая среда, заключающая в себе множество других здесь.
Мы не можем не повторить здесь слов Гегеля (Phanomenologie des Geistes, 81—64 Seite) [21], которые объяснят лучше всего результат всего нашего исследования:
«Ясно, что диалектика чувственной достоверности есть не что иное, как простая история ее движения или ее опытности, и эта сама чувственная достоверность не более как эта история. Вследствие этого обыкновенное сознание доходит также до этого результата и беспрестанно испытывает то, что в чувственной достоверности есть истинного; но потом снова позабывает его и всегда начинает движение сначала. И потому странно, что в противоположность этой опытности утверждают обыкновенно, основываясь на всеобщей опытности, как философское положение и как результат скептицизма, что реальность, или бытие, внешних предметов как этих имеет для сознания абсолютную истину. Такое уверение само не знает, что оно говорит, не знает, что оно выговаривает именно противоположное тому, что оно хочет сказать. Оно доказывает истину чувственного, единичного Бытия (этого), основываясь на всеобщей опытности; но всеобщая опытность доказывает скорее противное: всякое сознание самоуничтожает (hebf auf – снимает) такую истину, как теперь утро или здесь дерево, и выговаривает противное ей: здесь не дерево, но дом – для того, чтобы точно так же уничтожить потом в этом новом отрицающем утверждении то, что в нем есть утверждение единичного, чувственного бытия: здесь, дом; и чувственная достоверность беспрестанно испытывает, что мнимое, непосредственное единичное это – не более как всеобщее это, совершенно противоположное тому, что обыкновенно приписывают всеобщей опытности. При этом ссылании на всеобщую опытность да будет нам позволено обратиться к практическому миру: утверждающие истину и реальность чувственных предметов должны бы были быть отосланы в низшую школу премудрости, а именно: к элевзинским таинствам Цереры и Вакха [22], для того чтоб познать там тайну потребления хлеба и вина; потому что посвященный в эти таинства не только что доходил до сомнения в бытии чувственных предметов, но до полного отчаяния в их реальности и отчасти сам осуществлял ничтожество их, отчасти же созерцал его осуществление. И даже животные не исключены из этой премудрости, но оказывают себя в высшей степени в нее посвященными, потому что они не останавливаются перед чувственными предметами как для-себя-сущими, но, отчаиваясь в их реальности и в полной достоверности их ничтожества, бросаются на них и пожирают их; и вся природа торжествует эти открытые таинства разрушения, показывающие нам, что такое истина чувственных предметов».
«Утверждающие реальность чувственного единичного Бытия высказывают непосредственно противоположное тому, что они хотят высказать; явление, которое, может быть, более, чем всякое другое, должно привесть к сознанию сущности чувственной достоверности. Они говорят о существовании внешних предметов, которые могут быть определены еще точнее как действительные, абсолютно единичные, совершенно личные, индивидуальные предметы; существование их, утверждают они, заключает в себе абсолютную достоверность и истину. Они хотели бы высказать этот кусок бумаги, на котором я теперь пишу, но не могут его высказать, потому что мнимое чувственное это недостижимо для слова, выговаривающего только всеобщее; и действительная попытка выговорить его была бы самым лучшим доказательством его невыговариваемости; прибегнув к описанию, они никогда бы не окончили его и должны бы были предоставить его другим, которые должны бы были наконец сознаться, что они говорят о предмете, которого нет. Они мнят (sie meinen) именно этот кусок бумаги, а не тот, что лежит выше; но выговаривают только всеобщее; и то, что обыкновенно называется невыговариваемым, есть не что иное, как неистинное, неразумное, только мнимое. Если для определения единичного чувственного предмета говорят, что он – действительный, внешний предмет, то это не более как самые всеобщие определения, показывающие только его равенство с другими предметами и нисколько не обозначающие его различие от других. Определяя его как единичный предмет, я выговариваю совершенно всеобщее, потому что все предметы суть единичные предметы, точно так же как и определение этот принадлежит равно всем предметам. Определив его точнее как этот кусок бумаги, я ничего не выигрываю, потому что это определение может быть отнесено ко всякому и каждому куску бумаги. Если ж для дополнения слова, божественное свойство которого состоит именно в том, что оно превращает всякое мнение и не допускает мнимого до выражения, если для дополнения его я прибегну к указанию, то я узнаю на опыте, в чем состоит истина чувственной достоверности, я укажу его как здесь, которое заключает в себе множество других здесь или которое есть простое соединение множества здесь, то есть я укажу его как всеобщее и приму его так, как оно есть в истине, и мое знание из непосредственного знания непосредственного чувственного предмета превращается в принимание его истины (Wahrnehmung)».
Вывод этот может показаться с первого раза софистическим; непосредственное чувственное существование есть необходимое условие, необходимый момент всякой истинной действительности, но не более как момент, получающий свое значение от другого, высшего, и не имеющий самостоятельного значения, существенности, вне этого отношения к другому: ошибка или, лучше сказать, ограниченность чувственной достоверности состоит в том, что, не развившись до всеобщего и до действительно существенного, она приписывает существенность и истину единичным чувственным предметам, хотя по вышедоказанному и беспрестанно сознает ничтожество их. Род животных, например, был бы не более как отвлеченное понятие, если б не осуществлялся в непосредственно пребывающем множестве единичных этих животных; но никто не станет утверждать, чтоб действительность его зависела от существования именно этих нами созерцаемых животных; напротив, они умирают как призраки, не имеющие в себе истины, и возвращаются в недра субстанции своей – идеи, которая, как имеющая в себе силу самоосуществления в непосредственном чувственном пребывании (Daseyn), всегда действительна и никогда не умирает. Употребление пищи есть необходимое условие органической жизни, и было бы невозможно, если б пища не пребывала в виде единичных чувственных предметов, но оно независимо от каждого из этих предметов в особенности; для возможности его необходимо пребывание единичного чувственного бытия вообще, но не именно этого чувственного предмета. Напротив, единичные эти предметы беспрерывно исчезают в процессе пищеварения, но пребывание единичных чувственных предметов вообще всегда остается как необходимое условие органической жизни. Наконец, право собственности занимает важное место в общественной жизни и точно так же условливается необходимо пребыванием единичного чувственного бытия: земли, домов, вещей и т. д., но, так же как и органическая жизнь, нисколько не зависит от пребывания именно этих единичных предметов, от пребывания именно этого дома, этих вещей, которые беспрерывно разрушаются или клонятся к разрушению, оставляя право собственности неприкосновенным. Здесь могут возразить, что человек не бывает и не может быть до такой степени равнодушным к чувственным предметам, окружающим его, и что особенная привязанность к этому дому, к этому месту и к этим вещам есть самое обыкновенное и самое человеческое явление, так что человека, не имеющего такой привязанности, обыкновенно упрекают в холодности, в недостатке любви. Но это возражение нисколько не смутит нас: такая привязанность к чувственным предметам не относится непосредственно к ним, но к высшему духовному миру, освятившему их своим присутствием. Этот дом, это место существенны и важны для меня не сами по себе, но потому, что они освящены памятью моих родителей, родных, друзей, воспоминаниями моего детства или моей юности, так что в самой привязанности к ним уже заключается отрицание их, осуществление их ничтожества; человек не останавливается на них, но, возбужденный их созерцанием, оставляет их для того, чтоб перенестись в высший, духовный мир, находившийся с ними в соприкосновении, так что они не имеют значения в себе, но получают его от любви и воспоминаний человека. Наконец, нам могут заметить, что человек не может быть равнодушным к разрушению его дома, к покраже его вещей; но, во-первых, мы сами выше сказали, что собственность есть необходимое условие общественной жизни и что она невозможна без пребывания единичных чувственных предметов; во-вторых же, мы позволим себе повторить слова Евангелия: