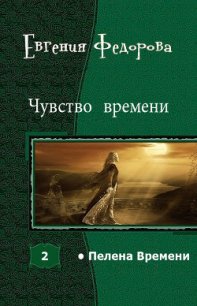Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (мир книг .TXT) 📗
Резюмируя то, что я сказал, мы можем выразиться так: мы имеем дело с тем, что у Пруста чаще всего называется впечатлением (слово, которое повторяется почти что на всех страницах романа), но – впечатление, очевидно, какое-то особое. И оно совмещено с точкой, которую мы можем назвать теперь сингулярной точкой (я уже термин этот употреблял), то есть такой точкой, в которую, например, факты не проникают. В которую нельзя перенести знания: она непроницаема, несоединима. И здесь же у Пруста возникает тема множества миров…
ЛЕКЦИЯ 4
27.03.1984
В ожидании сегодняшней встречи я думал о таких вещах, которые могли бы вас соблазнить, и это естественно, потому что всякий человек, который любит что-то, если он нормальный, конечно, хочет поделиться предметом своей любви, чтобы другие тоже это любили. И мне показалось, что мы к тексту Пруста должны отнестись так же, как он сам относился к впечатлениям жизни, – в следующем смысле. В одном из мест романа есть такая сцена [57]. Марсель едет на лошади в высоких горах, по тропинке, по которой ему проехать посоветовала герцогиня Германт, сказав, что он увидит экзотический пейзаж; и действительно, он едет на лошади среди скал, и между скал то показывается, то исчезает море, и в этом то показывающемся, то исчезающем море он узнает пейзажи Эльстира (выдуманный им художник; причем Пруст выдумал не только художника, но и произведение этого художника, которое описывается, среди других произведений, в романе). В пейзажах Эльстира (очевидно, один из первых воображенных и немножко улучшенных Прустом импрессионистов) всегда смешивались море, средневековые города, земля, так что трудно было отличить, где земля, где вода, а где каменные дома. И Марсель как бы видит эти пейзажи сквозь проемы скал, и вдруг лошадь шарахнулась от неожиданного для нее звука, и он еле удержал и лошадь, и самого себя от падения, поднял голову на источник звука и – это было первый раз в его жизни – увидел аэроплан над своей головой. Аэроплан парил примерно в ста метрах над его головой, попарил, помахал крыльями и исчез, и душа Марселя переполнилась непонятным и в то же время ясным для него ощущением другой жизни. Не той жизни, которой он живет, не той жизни, которая привычна, и не той жизни, которую можно угадать, потому что мы своим воображением угадываем что-то, что называем другой жизнью, но в действительности это – не другая жизнь, а продолжение нашего воображения. Наше воображение, как часто говорил Пруст, не может представить себе незнакомую ситуацию, потому что даже незнакомое наше воображение складывается из знакомых элементов, и мы в принципе не можем вырваться (естественным образом не можем вырваться; что-то нам должно помочь, или мы сами себе должны помочь) из сплетения известных элементов [58]. Так что это воображаемое не есть «другое». А вот в том ощущении, которое он ассоциировал со звуком планирующего самолета, он представил себе какую-то совершенно абстрактную, неясную, но переполняющую его радость, ощущение другой жизни, другого «я», то есть другого самого себя [59].
Я это рассказываю к тому, чтобы вы заразились этим ощущением – через Пруста или, может быть, через мой рассказ, неловкий, конечно, и бездарный по сравнению с текстом Пруста, – ощущением того, что вы могли бы быть другими. Но даже если не станете другими, то само это ощущение, может быть, повлияет на то, что есть в этой жизни с вами. Ведь в прошлый раз я говорил вам о том, что мы «жизнью» называем очень разные вещи, хотя слово «жизнь» имеет довольно точный смысл, который в некоторые особые, привилегированные моменты нам доступен. Я условно их называл моментами невыразимого – когда мы твердо ощущаем, что вот это так, но этого сказать нельзя. И именно в том, чего «сказать нельзя», мы чувствуем себя живыми. То есть мы чувствуем себя живыми именно в истине, которая похожа на ложь, как я вам уже цитировал из Данте, в той истине, которую нужно хранить сомкнутыми устами, потому что разевать рот бесполезно. Все равно ничего не скажешь. Когда скажешь – будет похоже на ложь. И вот это ощущение жизни самоценно. Оно ни для чего. И оно самое дорогое для нас, и во всем остальном, что бы мы ни делали, мы ищем это ощущение. Если оно присутствует в том, что мы делаем или испытываем, то тогда это имеет смысл. Короче говоря, наше самое большое желание среди всех желаний – быть живыми. Мы жить хотим. И у нас есть жизнь в двух смыслах. Жизнь в смысле 1 – что невыразимо, и есть некая жизнь 2, которая похожа на первую, но бывает лишена этого ощущения смысла жизни. Пруст… я бы сказал – одержим жизнью. И во всем, что он описывает, есть всегда поиск этого ощущения жизни. Найти себя живым. Поэтому вы часто встретите такую фразу: все, что я знаю, не есть я, все, что я не извлек из себя, это – не мое понимание [60]. То есть – не жизнь. У Пруста всегда идут какие-то равенства, уравнения (в математическом смысле уравнения). Скажем, слово «жизнь»: сам факт жизни странным образом равен идее. То есть жизнь равна Идее [61]. Жизнь равна Сущности, жизнь равна Закону. Очень странные уравнения. Но я сейчас дам одно маленькое пояснение. Есть один пример, который мне приходилось приводить (у меня самого эти повторения вызывают отвращение, но есть интуитивно точные примеры, их заменить нечем, сколько ни думай, не придумаешь ничего)… Понимаете, мне как-то пришло в голову очень простое, интуитивное определение жизни, то есть отличение живого от мертвого, от неживого. Живое отличается от неживого тем, что оно всегда может что-то иное. А мертвое уже не может ничего другого, чем оно есть. Поэтому бедный Пушкин, кстати, говорил в свое время, что в России любят только мертвых. Вы заметили, что если любят, то только мертвых сейчас поэтов. По одной простой причине – они уже не могут ничего отчудить. Ничего «откаблучить», как говорят по-русски. Просто очень. Живое же всегда может что-то иное. Значит, я снова вернулся к тому, на что хотел вас настроить; самое главное ощущение в Прусте, которое нужно уловить и перенести на себя и на текст, – услышать в звуке, в цветке, в поступке человека или в лице человека свою возможность другой жизни. То есть возможность того, что вы живы. Поэтому когда Пруст перечисляет свои типовые впечатления (а они есть у каждого человека), скажем, пирожное «мадлен», вид колоколен Мартенвиля, плиты мостовой в Венеции, – они, в отличие от символического полета самолета, который закодировал в себе для чувствительного поэта образ другой жизни, иной жизни, проанализированы. И когда я говорил, что есть жизнь в смысле впечатлений и есть жизнь (в другом смысле слова), похожая на жизнь, то, чтобы расшифровать те уравнения, которые я перечислил, скажу, что быть живым в первом смысле слова, то есть действительно живым, очень трудно. Это предполагает, во-первых (то, о чем я говорил в самом начале), что жизнь есть усилие во времени. Очень точное определение. И я добавлю – чтобы пояснить уже уравнения Пруста: жизнь равна идее, жизнь равна сущности, закону, – живое питается законами или сущностями. Чтобы у вас были какие-то ассоциации, чтобы вы сразу не испугались этой фразы, я хочу вам напомнить такого физика – Шредингера, одного из основателей квантовой механики; в свое время, когда генетика (я имею в виду биологическую теорию) только еще становилась на ноги, он среди прочих своих книг написал также и книжку о генетике; она была популяризацией новых достижений в генетике, по тогдашним временам новых, в 40-е годы. Книжка называлась «Что такое жизнь?». Рассуждая о жизни в связи с проблемой энтропии и упорядоченности (есть два противопоставления – неупорядоченные состояния, характеризуемые энтропией или максимум-энтропией, и есть упорядоченные состояния). Шредингер задался простым вопросом: вот, говорят, что жизнь есть обмен веществ. Определяют жизнь как обмен веществ… Но какой смысл, скажем, один атом кислорода обменивать на другой атом кислорода, когда они вполне тождественны и одинаковы? Очевидно, не в этом состоит процесс обмена, если этот процесс является сущностью жизни. Очевидно, говорит он, все-таки жизнь действительно состоит в обмене и сущностью жизни является процесс, состоящий в том, что жизнь питается порядком, То есть жизнь есть процесс извлечения порядка – живое живет извлечением порядка, и если жизнь не извлекает порядка, то она не живет. Вот вместо слова «порядок» поставьте слово «сущность» или «закон». Я возвращаюсь к нашей теме: по глубокому убеждению Пруста – поэтому и нужна вся та «аналитическая» работа художника, которую он считал своим призванием, – необходимо воспроизводство акта жизни в следующий момент времени. А воспроизводство акта жизни в следующий момент времени не само собой разумеется; воспроизведение акта жизни в следующий момент времени предполагает труд или работу извлечения порядка. В том числе извлечения смыслов, законов, сущностей, а переводя на наш язык, который мы уже ввели, извлечение того, что со мной происходит. Что я на самом деле чувствую? Потому что мы ведь умираем по отношению к самим себе… Ну, например, я не узнаю друга. Переводя на мой язык, который я сейчас вам предлагаю, это означает, что «дух умер к самому себе» [62]. Умер для самого себя. То есть некоторая духовная живая операция, – а мы вместе с Прустом сейчас предполагаем, что дух, или ум, тоже есть жизнь, живое что-то, – и он умер по отношению к самому себе. Или, переводя на другой язык, оказался в состоянии рассеяния и распада, или в шредингеровской энтропии. Значит, мы имеем два полюса: живое, то есть упорядоченное, в том смысле слова, что – живое ценой извлечения порядков и законов, а с другой стороны, имеем рассеяние и распад – неживое.
57
S.G. – p. 1028 – 1029.
58
Fug. – p. 424.
59
S.G. – p. 1028 – 1029.
60
См.: S.G. – p. 399 – 402; T.R. – p. 876 – 877.
61
T.R. – p. 872, 876, 906, 1044.
62
См.: T.R. – p. 899.