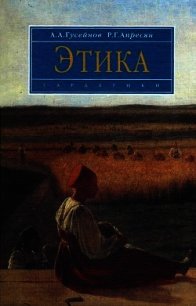Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней - Гусейнов Абдусалам (версия книг .txt) 📗
Глубокое впечатление оказало на меня одно переживание семи- или восьмилетнего возраста. Мой друг Генрих Бреш и я сделали рогатки, из которых можно было стрелять маленькими камнями. Дело было ранней весной, во время страстной недели. В одно солнечное воскресное утро друг говорит мне: «Давай, пошли в виноградник, постреляем птичек».
Это предложение мне покачалось ужасным, но я не посмел противоречить ему из-за страха быть осмеянным.
Мы подошли к голому дереву, на котором безо всякого страха перед нами птицы распевали свои любовные песни. Крадучись, словно индеец на охоте, мой друг вложил кусок кремня в резинку своей рогатки и потянул ее. Подчиняясь его повелительному взору, я, испытывая страшные угрызения совести, проделал то же самое.
В это же мгновение в солнечных лучах, сквозь пение птиц я услышал звон церковного колокола. То был первый звон, который на полчаса опережает основной звон и который сзывает верующих в церковь.
Для меня это был голос неба. Я выбросил рогатку, разогнал птиц, чтобы они спаслись и от рогатки моего друга, и убежал домой.
И каждый раз, когда на фоне голых деревьев и весеннего солнечного сияния звонят колокола страстной недели, с волнением к благодарностью я думаю о том, как тогда они прозвонили мне в сердце заповедь: «Не убий».
Начавшееся во время моей юности движение в защиту животных произвело на меня большое впечатление. Наконец-то люди отважились публично провозгласить, что сострадание к животным есть естественный элемент человечности и эту истину не следует скрывать. У меня было впечатление, что во тьме идей появился новый свет и он будет становиться ярче.
В 1893 г. я начал изучать философию и теологию в Страсбургском университете. В эти годы, на исходе столетия, нас, студентов, охватили удивительные переживания, связанные с противоречивыми сочинениями Ницше и Толстого.
Фридрих Ницше (1844–1900) едва окончившим университет юношей был призван в Базель профессором классической филологии. Но он не ограничивает себя исследованием лишь классической культуры и ее духа, а занимается проблемами культуры и ее духа вообще. С 1880 г. его критика направлена против европейской культуры, обусловленной греческой философией и христианством, против господствовавшего в ней духа слабых и трусливых людей. По мнению Ницше, именно слабые и трусливые создали этику, предписывающую любовь к человеку. Они создали ее, чтобы найти в ней защиту и надежду на счастливое бытие.
Однако этика истинной культуры, как полагал Ницше, требует гордого и мужественного утверждения жизни. «Сверхчеловек» связывает себя не с «рабской моралью», а с господской моралью «воли к власти».
Это новое понимание сущности культуры и этики, возвещенное Ницше с большим пафосом, имело огромное воздействие па людей того времени, особенно на молодежь.
Одновременно тогда, на закате столетия, стали известны произведения Толстого (1828–1910). Русский писатель и мыслитель представил в своих романах и повестях иное, отличное от ницшеанского, воззрение. Оно было для него глубоко выношенной и продуманной истиной. Его произведения показывали путь, по которому он пришел к подлинной человечности, и позволяли вместе с ним пройти его.
Так мы, молодые люди конца XIX в., столкнулись с двумя различными мировоззрениями.
Я ждал, что религия и философия совместно и энергично выступят против Ницше, будут противостоять ему. К моему глубокому разочарованию, этого не случилось. Мне казалось, что они не хотели, не стремились обосновать этику с той глубиной, которую требовала борьба, развернутая против нее Ницше.
Будучи студентом последних лет столетия, я решил посвятить себя вопросу: действительно ли наша культура обладает достаточной этической энергией? Это привело меня к необходимости заняться проблемой культуры и этики в том ее виде, в каком она обсуждалась философией начиная с 1850 г.
Из появившихся в этот период в Европе философских произведений я заключил, что культура и этика не воспринимаются как проблема, а рассматриваются как состоявшееся и достойное заимствования духовное достижение.
Я не мог также отделаться от впечатления, что этика, считавшаяся подлинной, не предъявляла человеку и обществу высоких требований. То была «успокоившаяся» этика.
Когда в конце века во всех областях жизни началось подведение итогов достигнутого, с тем чтобы обозначить и оценить его, то происходило это с непонятным для меня оптимизмом. Все были склонны думать, что мы продвинулись вперед не только о области знаний, но и в сфере духовного и этического, достигнув здесь невиданных высот и необратимых результатом. Мне же представлялось, что в духовной жизни мы не только не превзошли предшествующее поколение, но, напротив, даже утратили многое из накопленного им духовного богатства.
Глубокое воздействие возымело на меня зафиксированное при разных обстоятельствах наблюдение: негуманные мысли, когда они выражались публично, не отвергались и не осуждались, а воспринимались спокойно. «Реальная политика» вызывала уважение. Ницшеанская «воля к власти» начинала играть свою роковую роль. Пароль «реальная политика» расчистил ей путь. Духовная и душевная усталость, как мне казалось, овладела поколениями, гордившимися трудом и достижениями.
Все больше и больше я склонялся к тому, чтобы заняться культурой и этикой последних десятилетий XVIII столетия.
Затем постепенно я пришел к необходимости приступить к обстоятельному критическому исследованию духовного состояния времени, в котором я жил. Работа должна была носить название: «Культура и этика». Но так как мы, па мой взгляд, переживали период духовного упадка, то у меня возникло искушение назвать ее «Мы эпигоны».
Лето 1900 г. я провел в Берлинском университете. В доме вдовы великого эллиниста Эрнста Куртиуса я мог часто видеть известных берлинских ученых. Однажды за послеобеденным кофе, как бы подводя итог ранее начатой дискуссии, один из гостей — членов Прусской академии сказал: «Все мы лишь эпигоны». Эти слова промелькнули передо мной как молния. Следовательно, я не единственный, кто сознает, что наше время есть время эпигонов!
Я, это было в начале столетия, решил просмотреть философские произведения по этике последних десятилетий под углом зрения того, что в них говорится о нашем отношении к живым созданиям.
Как оказалось, многие произведения рассматривали это отношение как нечто второстепенное, в некоторых же из них авторы считали своим долгом извиниться за то, что они призывали выказывать сочувствие существам, которые находятся на иной, более низкой, нежели человек, ступени развития. Едва ли в каком-нибудь произведении можно было прочитать, что сострадание к ним требует большого внимания.
Но я был убежден, что доброта по отношению к животным должна занять определенное место в философской этике. Этой последней, полагал я, настал час прийти на помощь защитникам животных.
Ранней весной 1913 г., завершив изучение медицины, я вместе с женой отправился во Французскую Экваториальную Африку, чтобы открыть госпиталь в миссии, основанной в 1872 г. американским пресвитерианским миссионерским обществом. Это было время борьбы с сонной болезнью, которая производила в Экваториальной Африке страшные опустошения.
В своем багаже я вез достаточно философских произведений, чтобы можно было продолжить работу «Мы эпигоны».
В августе 1914 г. началась первая мировая война. Как эльзасцы, мы с женой относились к немецкой национальности. До войны это не помешало нам прибыть во французскую колонию и основать там госпиталь. Но теперь мы оказались в бедственном положении, мы стали подозрительны.
Вечером первого же дня войны было объявлено, что мы должны считать себя пленными и обязаны оставаться в доме, отказавшись от какого-либо общения, будь то с белыми или черными. Перед нашим домом была выставлена охрана, состоящая из унтер-офицера и четырех солдат.
Работа в госпитале мне была запрещена, и у меня поэтому появилось время сосредоточиться на предмете, который занимал меня многие годы, а из-за начавшейся войны стал особенно актуальным, — проблемой «культура и этика».