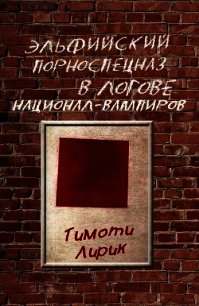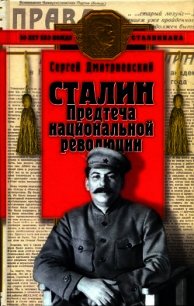Национал-большевизм - Устрялов Николай Васильевич (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно TXT) 📗
В этих людях нет глубокой культуры; зато есть свежесть воли. Их нервы крепки. Нет у них широкой теоретической подготовки; зато есть практическая сметка. Нет прекраснодушия; вместо него — здоровая суровость примитива. Нет нашей старой расхлябанности; ее съела дисциплина, проникшая в плоть и кровь. Нет гамлетизма; есть вера в свой путь и упрямая решимость идти по нему.
Эти люди прочно пронизаны узким, но точным кругом идей — импульсов, и, как завороженные, как обреченные неким высшим роком, делают дело, исторически им сужденное:
Но кроме них, кроме своих официальных, придворных когорт, революция формирует и более широкие свои кадры. Поток революции жестоко взбороздил русскую землю, взрыл глубоко лежавшие, исконно безмолвствовавшие человеческие слои. Новые люди, несомненно, появились. Они теперь испытываются, просеиваются, происходит естественный отбор. От них зачастую веет свежестью, и ощущается в них органическая сила. Недаром все чаще говорят о «самодеятельности крестьянства». Россия стала народней. Ее облик выглядывает сейчас проще, элементарнее. Ушла с поверхности жизни старая интеллигенция с ее интересами и потребностями, с научными и религиозно-философскими обществами, толстыми журналами, «Русскими Ведомостями». Новые времена — новые песни.
Не скрою, в этой новой атмосфере и сам я подчас начинал себя чувствовать словно чуждым, далеким, слишком старомодным человеком. Тоже «человеком заката». Словно за бортом жизни, за бортом истории… И в сознании, своеобразно преломляясь, звучало тогда тютчевское:
И думалось, — что же, будем, подобно Лаврецкому, приветствовать «племя молодое, незнакомое». Пусть ищет свое солнце, как мы искали (и ищем?) свое. Роптать не станем никогда. Да и нечего роптать: разве не все пути ведут в Рим и разве солнце, в конце-концов, не едино?..
Как бы то ни было, революция, несомненно, обзавелась социальным кислородом. У нее есть свои верные батальоны, на которые она может положиться при всяких обстоятельствах и в любом отношении. За границею часто говорят о «казенных демонстрациях», о «подстроенных народных протестах» на улицах Москвы. Я убедился, что власть имеет возможность в любой нужный момент организовать весьма внушительную манифестацию, которая будет вместе с тем вполне «искренной». Рабочие московского района в своей подавляющей массе настолько сжились с революцией и вжились в нее, что преданы ей за совесть, а не за страх. Они — аутентическая аудитория революции. Они выйдут на демонстрацию с искренним чувством и будут «протестовать» и «торжествовать», когда это нужно, от горячего, чистого сердца. Революционное воспитание и тренировка диктатуры сделали свое дело. Масса чувствует себя правящей и тогда, когда она управляема. Это ли не здравая диалектика власти? Это ли не логика революции?
Конечно, рабочие — одно, а советские чиновники — другое. У этих психология сложнее. Бывает, когда и служилое сословие Москвы выходит на улицу для восторгов или протестов. Тогда их стиль естественно меняется. Но, повторяю, в распоряжении правительства всегда имеются достаточные и верные кадры для демонстрации подлинных проявлений народного гнева и народной любви. Пусть капризен народный гнев и зыбка народная любовь, — все же это фактор…
Аппарат власти налажен. Непосредственное окружение ему благоприятно. Разумеется, ему не изменить ни больших законов экономики, ни законов истории. Ему приходится быть гибким. И именно практичность, трезвость новых людей позволяет им успешно учиться у верховной наставницы и общей нашей правительницы — всемудрой и всемогущей Жизни.
Иллюзии гибнут — Идея пребывает…
(Вечер).
6-го августа.
Тайга. Проезжаем тайгу у Нижнеудинска. В открытое окно смотрит хмурый лес: сосны, лиственницы, березы. Моросит легкий дождичек. Хорошо. Благодать… Стога сена только что собранного… Две лошаденки у костра… Косари… Белый ковер ромашек… Розовые цветы, нарядные… Быстро мелькают деревья… Сибирь.
Вчера, поздно вечером, когда поезд почему-то задержался на станции, вышел в поле. Светил молодой месяц, было тепло, пахло землей, зеленью, полынью, за станцией пели песню — настоящую деревенскую песню…
Этот вязкий, горький запах полыни — точно горькие думы земли… В них не меньше прелести и, пожалуй, больше подлинности, чем в ее салонных комплиментах — розах, резеде, гелиотропах… Ведь у нее, старой, есть чему задуматься, есть чего пожалеть…
И так хочется вдыхать этот густой, шершавый аромат — словно разгадываешь в нем «печаль полей», приобщаешься к ней, — и в этом запахе, и в этой тянущейся песне глубже постигаешь и себя, и землю, и русскую судьбу…
Едем быстро, плывет бесконечный лес. Нет ему, кажется, конца-краю… Азия.
Возмущается сосед-француз:
— У вас столько земли, и какая земля! Займитесь же ею! А вы вместо этого все мечтаете о том, как бы осчастливить других… Или — je demande mille pardons — пускаетесь в авантюры, хватаясь за Корею, как царь, или за Монголию, как нынешнее ваше правительство. Ho-la-la!..
Что ему сказать, -
Он этого не поймет. Он приятен, умен, интеллигентен. Чисто моется, гладко бреется. Пахнет от него одеколоном и мылом. Это очень хорошо, и нам до этого еще далеко. Но… где-ж понять ему, что ему России не понять?
Вот сейчас сидит напротив и читает по-французски Оссендовского «Боги, люди, звери». Захватил с собою из Парижа, дабы лучше проникнуться русской экзотикой. Беседуем. Я больше слушаю, любезно расспрашиваю, помалкиваю.
— Нет, серьезно, если вы не хотите потерять последних симпатий во Франции, обуздайте Третий Интернационал. Я это говорю всем моим русским друзьям. Я это от всей души сказал и a monsieur le ministre (Семашке). Кстати, какой он достойный человек, brave homme! Et il aime sa patrie [353]. Я убедился в Москве, как много он сделал для своей родины.
И снова, возвращаясь к Франции:
— Вы не можете себе представить, как смешен этот Дорио с мароккскими своими выступлениями. Конечно, у нас свобода, пусть себе выбалтывается… Но все же ca nous embete enfin [354]… А у вас — такие пространства, такие богатства!..
Он много и резонно говорит о Дорио, о том, как вся нация против него и против Кашена, как их не боятся, как над ними смеются, как хороша жизнь во Франции, как легко преодолимы финансовые затруднения, — а за всеми этими храбрыми словами чувствуется непрерывно какая-то глухая, глубокая тревога, душевная дрожь, и кажется, что в глазах его вот-вот промелькнет стихийный, смертный ужас. Вспоминается почему-то блоковское, -