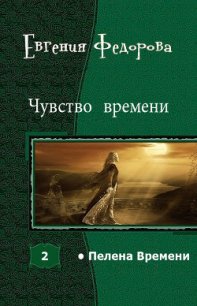Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (мир книг .TXT) 📗
Сейчас я немножко отклонюсь в сторону, чтобы пояснить вам образ героя и дальше двигаться в том материале, который я ввожу. В греческой героике, если брать вместе греческие мифы и греческую лирику и трагедию, можно отчетливо выделить две эпохи, отделенные переломом одна от другой. В одной эпохе вы имеете перед собой героя, героические качества которого являются как бы выражением и проявлением его физической необычности и уникальности. Скажем, Геракл – проявление необычных физических качеств; боги наделены такими необычными естественными силами. А потом – резкое смещение – вы видите образ человеческой доблести. Греки говорили, что герой – это тот, кто способен быть гоплитом, тот, кто способен локоть к локтю сражаться вместе с другими. Они имели в виду, что героизмом является становление самого себя в качестве гражданского существа. И поэтому моральная доблесть – своим усилием держание вместе условий, которые без твоего усилия расползались бы и распадались бы. Вот это заместило физически выраженные образы героического. И вот этот героизм человеку необходим там, где он идет к себе возможному, то есть к себе, не имеющему заданного облика. Облик наш дан в нормах и в правилах, которые существуют в культуре. Мы, например, добры в той мере, в какой то, что мы делаем и думаем, соответствует норме, данной в культуре. А культуры все разные, и нормы в них могут формулироваться различным образом. И то, что есть добро в одном обществе, в одной культуре, может быть злом и безнравственностью в другой культуре или в другом обществе. И пока мы культурны, мы ведем себя как уже существующие эмпирические люди, а возможный человек – это вертикальный срез: поверх и поперек всех культур и рождаемых ими различий. Поэтому греки и считали, что бытие – это становление другим. Не уже существующий какой-то предмет, а нечто, что становится другим. Становление другим, не предзаданное ни в каком законе, ни в какой норме, есть проявление силы бытия. А сила бытия требует героизма со стороны человека, пытающегося попасть в бытие. И героизма это требует по одной причине (среди многих причин), которая четко видна в прустовском романе. Ведь там ясно, что если мы желаем чего-то, то это желание «чего-то» рождается прежде всего в пустоте, которая называется возможным человеком, или, иначе, называется личностью, в отличие от индивида. Вы понимаете прекрасно, что личностное или нечто, имеющее лик, лицо, не есть калька с чего-нибудь другого, а есть нечто, являющееся основанием самого себя. Скажем, я поступаю – не потому, что таков закон, не потому, что есть какие-то описуемые эмпирические причины для моего поступка, а поступаю – потому что поступаю. Такого рода поступки и называются личностными поступками, – конечным основанием которых является сама эта личность, не сводимая к никакой другой и не заместимая никакой другой, так? Так вот, наши желания возникают там, через желания хочет стать некоторый возможный лик, некоторый возможный человек. Потому что никаким нашим желаниям никогда нет места в предзаданном, уготовленном мире. Ведь желать чего-то – значит желать чего-то другого. Мы желаем всегда другого. И эта причина желания важней самого желания или предмета желания. Так же, как причина, почему я люблю что-то, важнее самого предмета любви. Скажем, человек может любить, потому что причиной любви является какое-то замыкание человека на чем-то доблестном и высоком, и, я бы сказал так – по пути стремления к этому, по пути реализации какой-то доблести я люблю кого-то. И, конечно, в этом смысле «причина» важнее самого предмета любви. Предмет любви случаен, мог быть другой, на котором совместилось бы это и т д. И не предмет является причиной пафоса любви, избыточности любовного волнения, это ясно – оно избыточно именно потому, что предмет как бы находится на полдороге нашего движения (допустим, к доблести). Но дело состоит в том, что ведь в самом движении этого желания, потом (внимательно слушайте этот поворот), потом то, из-за чего я желаю, например, быть доблестным, люблю, невозможно во мне без и вне того, что желаю. Скажем, условно, причиной любви к Альбертине была всечеловеческая потребность Марселя в нежности или в лоне нежности, – и собственной, и окружающей его. Эта же причина действовала в его отношении к собственной матери: поцелуй матери – это как бы окутывающее меня материнское лоно, в котором я блаженствую и пребываю в нежнейшем состоянии. Она кристаллизовалась, эта потребность, на Альбертине. И раз кристаллизовалась, то во мне нежность становится невозможной без Альбертины. Но предмет подчиняется эмпирическим законам жизни, судьбы, я уже не говорю, что он подчиняется своей собственной самобытности. И я не контролирую ни эмпирических законов движения жизни, ни самобытности Альбертины – это все ускользает из-под моей власти и тем самым устремляет меня в какую-то последовательность, в какой-то бег, совершенно не совпадающий с реализацией меня самого как личности в тех качествах, из-за которых я люблю. Повторяю, потом то, из-за чего я люблю, становится невозможным без того, что я люблю. И это оказывается цепями, наброшенными и на мир и на меня самого. И вот сомнение упирается как раз в это. В том числе сомнение должно выявить, только сомнение может выявить за предметом моей любви то, из-за чего я, собственно, люблю. Это и есть познание себя самого. И беда в том, что для познания себя самого или в этом познании себя самого мы подчиняемся страшному закону, требующему героизма и мужества внутри «потом», «потом уже невозможно», или «потом возможно только с тем, кого люблю», – с Альбертиной, или с Россией и т д., если угодно, с родиной – любой предмет поставьте на это место.
Я приведу вам стихотворение Мандельштама, которое резюмирует многое из того, что я говорил:
Значит, «несозданных миров отмститель будь», в смысле – возьми их голос на себя и отомсти за них тем, что дашь им существование, то есть «несуществующим существованье дай» и «падающих звезд пойми летучий рай». Падающие звезды, вы, конечно, знаете, – это символ человеческой души. Когда падает звезда, мы говорим: отлетела чья-то душа. Но то, что он жил и умер, это не значит, что он существовал в том смысле, в каком мы говорим. У падающих звезд тоже есть какой-то несвершенный смысл, содержание, у них тоже был свой рай, с которым они не воссоединились. Я уже вам рассказывал о том, что проблема существования есть проблема воссоединения человека с некоторой его первородиной, иначе называемой раем, золотым веком или, как у Пруста, «неизвестной родиной художника». И поэтому здесь не случайны слова «рай», «падающих звезд пойми летучий рай». Почему «рай»? Да потому, что эти души в своей попытке существования были совмещены с искомой первичной родиной, в которой они родились и о которой они должны вспомнить. Все, что я сейчас говорю, и стихотворение Мандельштама, есть напоминание об образе (он и у нас фигурировал, и у Пруста все время фигурирует) самого письма, «писания». То есть «писание» оказывается у нас некоторым непрерывным письмом. В каком смысле слова? Я еще один шаг сделаю – непрерывное письмо есть как бы некоторое непрерывное преобразование, лишь относительно которого во всем остальном устанавливаются какие-то человеческие смыслы, восприятия, все эффекты понимания: «А, понял, наконец». Так вот, то, что я понял, – «понял» ведь есть какая-то, назовем так, константа, существующая независимо от нас, – этот инвариант устанавливается по отношению к тому, достигнута ли какая-то непрерывность, называемая «непрерывным писанием». Дело в том, что здесь содержится парадокс. Я говорю: непрерывное письмо – одним из признаков непрерывности письма является неоконченность романа Пруста, так же как неоконченность романа Музиля «Человек без свойств», так же как неоконченность «Поминок по Финнегану», – или произвольная оконченность. Роман Пруста в его последних частях выходил, когда Пруст уже умер, и можно считать, и, кстати, это будет неправильно, но можно считать, что неоконченность романа была вызвана смертью, преждевременной смертью писателя. Но жил Музиль, и сам заканчивал роман: он произвольно выбрал какой-то кусок и вставил в виде конца романа, а мог бы выбрать любой другой. Так вот, в факте неоконченности романа мы видели очень древнюю, уже в мифологии отмеченную вещь, реализующую древний символ змеи как символ сознательной жизни или бесконечности сознательной жизни. Или безначальности сознательной жизни. Он (символ) означает, что момент завершения есть одновременно момент заново возникновения. Возникновение – стать полностью самим, – казалось бы, конец, а он и есть начало, так? И, собственно, поэтому в конце романа получил бытие или стал субъект, способный написать роман, а роман уже написан. И как нет причины начинать роман, а роман уже написан. И как нет причины начинать роман, так нет причины его кончать. Это есть непрерывное письмо, – когда нет причин ни начинать, ни кончать, а есть нечто, – и это вы должны четко представить, потому что это имеет отношение к тому пространству мира, которым мы занимаемся, – есть некоторый интервал. То есть термины «начало» и «конец» здесь просто не имеют смысла. Так же как они не имеют смысла в тех примерах, которые я приводил: мы не можем начать мыслить, нельзя начать историю, она или есть, или нет. Если она есть, мы уже в ней, мы ее не начинаем. Если вы помните, я приводил цитату из Чаадаева, где о России говорилось как о некой неисторической стране, в очень строгом и определенном смысле слова. Таинственные вещи, которые можно уловить только спекулятивно, то есть отвлеченнно, – нельзя начать историю. Ведь где-то начиналась, кто-то ведь ее начинал. Вот и приходится философии и искусству снимать эти вопросы – «кто начинал?» – как не имеющие смысла. Они имеют обыденный смысл, потому что мы не можем вообще представить чего-либо, что не начиналось бы кем-то, когда-то, в какой-то точке. А вот, к сожалению, мыслить приходится так, и тогда мы начинаем что-то понимать. (Я чувствую по вашим лицам, что все это не очень понятно, хотя я приводил много примеров, в которых ясно было существование безначальных и бесконечных феноменов, без начала и без конца, которые мы должны брать как некий интервал. Например, я неоднократно показывал вам, что нельзя «начать честь». Честь означает, что были какие-то первоакты, в которых одновременно создавалась реальность, в которой действительно, реально происходили события, которые могут быть описаны в терминах чести.)
503
См.: Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1979. С. 210 («Я знаю, что обман в видении немыслим…»).