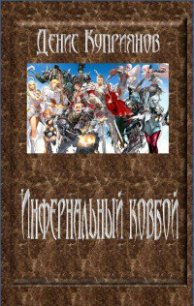Избранное: Социология музыки - Адорно Теодор В. (книга читать онлайн бесплатно без регистрации TXT) 📗
Как известно, это явление совпадает с тем, что происходит в изобразительном искусстве, вспомним, как развивался в своем творчестве Кандинский, как пространство в его произведениях начинало уходить за видимый план, как вдруг осталась только поверхность этого пространства и эта поверхность стала сокращаться. Или Пауль Клее: предполагается, что у него есть пространство, а мы видим только то, что вынесено на экран перед нами.
Но я не уверен, что Веберн заходит так далеко. Он начинает делать этот шаг, но доходит ли он до полного исключения пространства, об этом говорить очень трудно и судить об этом можно только при условии, что мы способны анализировать и свое собственное слушание и слушание других людей, потому что ограничиться лишь изучением текста произведения здесь нельзя: ведь текст – это то, что всегда подлежит интерпретации и не может быть никакого текста, который мы могли бы представить, не интерпретируя его – в отличие от того, что думал Шёнберг. Поэтому когда мы ставим такой вопрос, мы имеем дело только с интерпретацией – и в буквальном смысле – исполнением, и с интерпретацией как нашим пониманием, а наше понимание – вещь самая неуловимая и самая непонятная.
Можно лишь сказать, что по сравнению с той потребностью звучания о которой писал Шёнберг в 1930 г., Веберн делает или начинает делать некоторый шаг вперед – шаг, который означает редукцию пространства до его поверхности. А доходит ли он при этом до конца, я не знаю, но думаю, что он не успевает сделать это, потому что в его музыке начинают действовать тенденции, которые оказываются для него творчески регрессивными. Он начинает испытывать ностальгию по тому, что было раньше, и поздние опусы Веберна – это, по-видимому, очень большая тоска по музыке в том состоянии, на которую был наложен запрет. Одни только знаки повтора, выставленные в поздних опусах Веберна, уже указывают на это, потому что поставить знак повтора и что-то повторить – это значит перечеркнуть импульс развития музыки, который с такой ясностью обнаружился лет за 30 до этого в творчестве Веберна. Музыка – это членораздельно высказываемый смысл – и следовательно, из-за одного этого ничего не должно повторяться: это все равно как если бы поэт написал стихотворение, в котором одно четверостишие повторялось бы дважды. Но до того времени, когда поэты стали выписывать и бесконечно повторять одно и то же и даже редуцировать свой текст до отдельных букв, было еще довольно далеко – а это все тоже находилось в перспективе развития искусства – в той перспективе, в которой искусство не уходит куда-то вперед, а возвращается к архаике, к архаике, постоянно возобновляемой в истории искусства (в частности, поэзии). Веберн, и Берг также, естественно, внутренне начинают отказываться от идеи эволюционного развития искусства, т.е. от той самой идеи, которую разделял и всячески сознательно пропагандировал сам Шёнберг. Ему казалось, что искусство находится в эволюционном развитии, и он сам пытался участвовать в этом развитии, придумывать что-то новое, что было бы следующим в этом эволюционном ряду. Так – наряду с открытием пространства – нового, по-новому понятого пространства, возникает другой феномен – закрытие этого же самого пространства, и это закрытие начинает ощущаться в творчестве Веберна.
Есть прекрасные классические образцы в творчестве Веберна, где это пространство реализуется с максимальной новой полнотой. Но не там, где он перекладывает для оркестра произведения Баха, потому что в этом случае происходит выравнивание пространства, а там, где возникает собственно творческое пространство самого Веберна. Такой пример – "Три пьесы для виолончели и фортепиано", произведение классическое, потому что этот дальнейший шаг здесь еще не делается, а пространство реализуется максимально, как это было доступно для мышления и для слушания музыки в этот момент. Эта музыка звучит внутри пространства, которое она же сама создает, и звучит в части того пространства, которое она создает. И как только оказывается, что всё в музыке должно быть дифференцировано, так внутрь музыки входит огромная тема, которая раньше реализовалась только косвенно, – тема молчания. "Три пьесы для виолончели" классичны в том смысле, что достигнуто некоторое равновесие (а оно и есть классическое) – в плане реализации пространства самыми скромными средствами. Эта музыка предельно пристально вслушивается в самое себя и хотя это вообще свойство музыки Веберна, но в разных его произведениях оно выражено в разной степени. Я думаю, что в некоторых сочинениях это погруженное в себя вслушивание в себя же отходит на второй план, поскольку оказывается, что музыку можно создавать как конструкцию на основе своего собственного опыта. А "Три пьесы для виолончели" – это открытие, при котором мы присутствуем, – это открытие и этой музыки, и этого пространства, в котором она создается.
Никто лучше Адорно о таких произведениях не сказал и, может быть, не скажет: "Эти тихие пьесы звучат так, как звучала в годы Первой мировой войны канонада в сражении при Вердене, но на расстоянии нескольких десятков километров – она звучала как тихий, еле слышный гул, но страшный по своей сущности". И музыка "Трех пьес для виолончели" прекрасно соответствует этому чудесно найденному образу. В этом отказ и отступление. Эта музыка думает за себя и за историю, потому что если музыка настоящая, она, как всякое искусство, находится во власти истории – не во власти субъективности данного человека, а во власти более обширных сил: она отступает от своей чувственной полноты, она отступает, как перед чем-то страшным. И отсюда – пространство музыкального произведения, которое заведомо шире, чем то, что мы в этом произведении слышим. Оказывается, что эти музыкальные звуки выставлены на краю этого пространства: все звучащее отодвинулось в сторону, на самый край, а все пространство произведения занято тем, о чём композитор молчит. Это реализованное молчание, молчание, в котором Адорно совершенно правильно прочитал его импульсы, идущие от исторической действительности, но произведение, разумеется шире этого. Оно нам сначала говорит о том, что есть такое пространство, которое звучит и не звучит, это пустое пространство, но оно наполнено смыслом. Строится пространственность, которая превышает буквально написанное и буквально звучащее, и мы слышим, что оно звучит на краю этого создаваемого этим же произведением пространства. Это отступление – перед тем, с чем человек справиться не может. И это проблема искусства XX века: оно все должно находиться в состоянии отступления – по той причине, что человеческое сознание не способно справиться с теми историческими событиями, который происходили и происходят в XX веке – ни психологически, ни умственно, ни рационально. Ни писатель-реалист, ни композитор, который называет себя авангардистом – никто не в силах совладать с этим. И в этом – главная причина отступления. Главная причина того, почему музыка напряженно молчит, и почему она научилась молчать. Чисто технологическая и структурная сторона здесь тесно взаимосвязана с тем, что находится вне музыки. Все писатели, которые пытались писать о событиях XX в. как реалисты – в духе XIX века – должны были потерпеть крах в своих попытках передать эту действительность адекватно, так как эта действительность превышает способность человеческого сознания справиться с нею. Совершенно правы были те, кто писал, что всякая попытка передать эту действительность реалистически в конце концов сводятся к примирению с нею. Передать эту действительность в непримиримом виде – не под силу искусству.
Веберн этой страшной дилеммы избегает – тем, что он, как никто другой, уходит в молчание, которое реализуется внутри пространства музыки, и вся техника, которая была в его распоряжении, пошла на устройство этого пространства тем способом, который был для него существен и возможен. Пространство реализуется как отчасти звучащее, отчасти не звучащее, но несущее в себе смысл. Каждый, кто слушает такие произведения, убеждается в том, что эта музыка как мышление, вполне сознательно начинает внутри себя отступать – и это по-своему необыкновенно. Необыкновенно не только то, что написано в нотах, и что сконструировано как таковое и что мы могли бы назвать имманентным. Оказывается, что эта имманентность произведения включает в себя полость пустоты и эта пустота звучит.