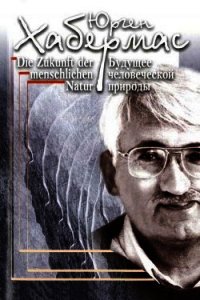Между натурализмом и религией - Хабермас Юрген (читать лучшие читаемые книги .TXT) 📗
Этим способом Дэвидсону удается дедраматизировать проблему: как следует обращаться с идеей истины и с идеальным содержанием притязаний на истины, которые обрели коммуникативное значение? Для другой проблемы, сопряженной с идентичным значению употреблением грамматических выражений (как можно избежать платоновского удвоения значений предложений в пропозициях), он предлагает элиминировать понятие значения. Одним из преимуществ своего объективистского метода Дэвидсон считает то, что он не должен пользоваться «значениями как сущностями»: «Не вводятся никакие объекты, которые должны были бы соответствовать предикатам или предложениям» [47]. Правда, проблема не исчезает бесследно. А именно: она возвращается на методологическом уровне вместе с вопросом, как интерпретатор может правильно подчинить собранные в поле свидетельства, то есть языковое поведение и отличительные черты настроя других говорящих, теоретически произведенным истинным предложениям. Для того чтобы интерпретатор мог ввести в поток наблюдаемых данных логическую структуру, он должен в первую очередь разложить эти последовательности поведения на подобные предложениям единства, которые могут быть подчинены бикондиционалам теории Тарского. Правда, наблюдаемой ковариантности отдельных высказываний вместе с типичными обстоятельствами, в которых они выступают, даже при успешном сегментировании пока еще недостаточно для ясного упорядочения.
В общем компетентный говорящий высказывает предложение о восприятии — на основе известного лексического значения употребленных выражений — только в соединении с тем, что он считает воспринятым, то есть принимает за истинное в данной ситуации. Поскольку значение слова и вера могут варьировать независимо друг от друга, наблюдаемые данные — то есть, наряду с поведением другого говорящего, еще и обстоятельства, в которых это поведение проявляется, — могут предоставить интерпретатору объяснение относительно значения интерпретируемого выражения только тогда, когда другой говорящий считает истинным то, что он говорит. Наблюдатель должен знать, верит ли другой говорящий в то, что он говорит, чтобы обнаружить, что означает сказанное. Поэтому интерпретатор должен полагать у наблюдаемого говорящего константное «принятие-за-истинное», чтобы исключить нежелательную взаимозависимость веры и значения. Только подчинение принятию-за-истинное превращает наблюдаемую ковариантность высказывания и ситуации высказывания в достаточное свидетельство для теоретически информированного выбора правильной интерпретации. По этой причине Дэвидсон вводит в качестве методологического принципа опровержимое допущение, что говорящие, наблюдаемые «в поле», как правило, ведут себя рационально. Это означает, что они в общем верят в то, что они говорят, и не увязают в противоречиях по ходу своих высказываний. При этом условии интерпретатор может исходить из того, что наблюдаемые говорящие в большинстве ситуаций воспринимают нечто так же, как и он сам, и верят в это, так что обе стороны соглашаются между собой в большом числе убеждений. В отдельных случаях это не исключает расхождений, но принцип побуждает интерпретатора к тому, чтобы «максимизировать согласие».
В этом месте следует констатировать, что методологически введенный принцип снисходительности (точнее, «великодушия») принуждает интерпретатора к тому, чтобы с точки зрения наблюдателя приписывать другому говорящему «рациональность» как диспозицию поведения. Это приписывание не следует смешивать с рациональностью, перформативно подменяемой участниками. В одном случае понятие рациональности используется дескриптивно, в другом — нормативно. В обоих случаях речь идет о следующем опровержимом предположении: «Методический совет интерпретировать таким способом, чтобы оптимизировать согласие, не следует понимать как опирающийся на великодушное предположение о человеческом интеллекте (Intelligens) […]. Если мы не находим никакой возможности так проинтерпретировать высказывания и прочее поведение некоего существа, чтобы при этом проявилось множество его убеждений, в значительной степени последовательных и истинных по нашим собственным стандартам, то у нас нет основания считать это существо рациональным, имеющим убеждения или вообще говорящим что-либо» [48].
Уже из этой формулировки (которая повторяется в аргументе Дэвидсона против различения между понятийной схемой и содержанием) явствует, что методологический принцип имеет до известной степени трансцендентальное значение [49]. Приписывание рациональности является неизбежной предпосылкой не только для радикальной интерпретации, но и для нормальной повседневной коммуникации между членами одного и того же языкового сообщества [50]. Без взаимной подстановки рациональности мы не нашли бы достаточно всеобщего, выводимого из наших различных теорий интерпретации (или идиолектов) базиса для взаимопонимания [51]. Тогда «принятие-за-истинное» в рамках интегрированной теории языка и действия еще раз сочетается с общим «предпочтением» по отношению к истинным предложениям («preferring one sentence true to another») [52].
Рациональность действия измеряется по обычным стандартам, по логической консистенции, по общим принципам действия, ориентированного на успех, и принимая во внимание эмпирические очевидности. В реплике на нападки Ричарда Рорти Дэвидсон недавно еще раз так сформулировал принцип снисходительности: «Charity is a matter of finding enough rationality in those we would understand to make sense of what they say and do, for unless we succeed in this, we cannot identify the contents of their words and thoughts. Seeing rationality in others is a matter of recognizing our own norms of rationality in their speech and behavior. These norms include the norms of logical consistency, of action in reasonable accord with essential or basic interests of the agent, and the acceptance of views that are sensible in the light of evidence» [53].
Интересно, что, по Дэвидсону, нормативность человеческого поведения, на которую ориентирована подстановка рациональности, служит и критерием отграничения языка физики от языка ментального: «There are several reasons for the irreducibility of the mental to the physical. One reason […] is the normative element in interpretation introduced by the necessity (!) of appealing to charity in matching the sentences of others to our own» [54]. Дэвидсону хотелось бы — вопреки монистическому взгляду сциентистского натурализма — оставить хотя бы тонкую демаркационную линию между духом и природой. Против этой героической попытки Ричард Рорти в состоянии выдвигать сильные аргументы, поскольку тем самым он радикализирует предложенную самим Дэвидсоном стратегию притупления потенциала разума, проявляющегося в языковой коммуникации [55]. Ведь совершенно неясно, как Дэвидсон может сохранять дуализм перспектив соотношения между телом и духом после того, как он переводит рациональное поведение полностью на сторону объекта и сводит понимание языковых выражений к теоретическим объяснениям объективирующим образом настроенного интерпретатора. Дело в том, что и языковое понимание, и стандарты рациональности, которые Дэвидсон поначалу предполагает со стороны радикального интерпретатора, не упали с неба. Они нуждаются в дальнейшем объяснении.
Радикальной интерпретации недостаточно для того, чтобы в пределах избранных эмпирических рамок сделать понятным, как сам интерпретатор смог научиться говорить, а язык — вообще возникнуть. Если субъекты, способные говорить и действовать, являются «духовными существами», так как они могут занимать интенциональные установки к логически сопряженным пропозициональным содержаниям, и если именно интенциональное построение их речевых актов и их действий требует от интерпретатора подстановки как рациональности, так и менталистских понятий, то остается открытым вопрос, как может возникнуть нечто такое, как сама интенциональность. Как известно, на это Дэвидсон отвечает модельным представлением о «треугольной» ситуации обучения, в которой два организма одновременно реагируют и на «мир», и друг на друга. Дэвидсон стремится показать, в духе логического генезиса усвоения элементарных языковых выражений, как с «нашей» точки зрения, но при натуралистических предпосылках могло бы оказаться возможным, чтобы два организма одного вида, высокоразвитых и интеллектуальных (intelligente), но еще до появления языка приспособившихся к своей природной окружающей среде, учатся посредством употребляемых в идентичном значении символов обретать ту дистанцию к своему чувственно стимулирующему окружению, которую мы называем «интенциональной».