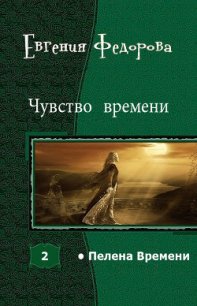Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (мир книг .TXT) 📗
Значит, «я есть, я могу» – мир устроен так, что есть как минимум одно существо, которое может. И, конечно же, то место, в котором мы можем, не есть то, что мы можем выбирать, не есть то, что мы можем получить умозаключением, посредством знания. Приведу вам исторический пример, чтоб понять, что, как ни странно, термин «знание» неприменим, если под «знанием» понимать некую знаково-логическую структуру. Скажем, «я могу», – чтобы понять, что это не есть продукт умозаключения, я сразу приведу вам известные слова Лютера: «Здесь я стою и не могу иначе». Он имел в виду следующее: он «стоит здесь», то есть он занял то место, которое ему указано каким-то предназначением, но почему? и что это? – он не знает. Я не знаю почему, я не могу вам доказать – «не могу иначе». Hier ich stehe und kann nicht anders, здесь я стою и не могу иначе. Теперь мы интуицией уловили, о чем идет речь. И вот то, что я называл формами, есть такого рода потенции, такого рода «мочь» или «мощь». Форма актуальности такой способности, назовем это так. Если это так, то мы, конечно, прекрасно понимаем, что те социальные формы, которые изобретались человеком, вовсе не изобретались с оглядкой на каким-то образом известные человеку независимые условия среды и приспособление к ним каких-то форм человеческого общежития. В действительности человеческие общежития, их формы изобретались, чтобы могли реализоваться какие-то человеческие силы, сама способность человеческого общения (та, на которую были способны люди), – через ту форму, которую они изобрели. В контексте такого рассуждения возможна следующая фраза Шарля Фурье. Вслушайтесь внимательно, она совершенно непохожа на то, что я говорил перед этим, но из сказанного сразу же может возникнуть та мысль, которую я сейчас выражу словами Фурье, а он говорил так (мимоходом, хотя вся его концепция, о которой я частично вам рассказывал, основана на этом) – «формы общества, которые оставалось изобрести» [548]. Сразу напомню вам Леонардо да Винчи, который говорил о принципах природы, которых никогда не было в опыте. Это ведь оборотная сторона: принцип – для того, чтобы что-то было в опыте, или форма – для того, чтобы что-то случилось в опыте; чтобы я реально испытал, пережил, реализовал то, что можно реализовать только путем совместного общения. Например, мы уже общаемся и пользуемся друг другом, и делаем это как умеем, но наше умение складывается не приспособительно к какой-то среде, а, скорее наоборот: опыт рождается посредством изобретенной формы, и следовательно, должны быть предположены такие формы, которые есть, но мы их не изобрели, мы их не знаем, или, как говорил Спиноза: «идея модусов, которых не существует» [549]. Ученая фраза Спинозы относится к тому, о чем я только что говорил: «формы общества, которые оставалось изобрести», «принципы природы, которых никогда не было в опыте», или, в связи с этим, я говорю: любовная форма, которой никогда не было в опыте, и в силу этого чего-то никогда не было и в нашем опыте любви.
Значит, на фоне того, что я говорю, все время стоит предположение некоторых потенций жизни, бесконечно больших, чем то, что мы можем в жизни реализовать, изобретя какие-то формы. Чтобы реализовать, нам нужно изобрести какие-то формы. Испытать без форм – нельзя: не получится, будут те недоноски, полусущества, о которых я вам рассказывал. Изобрели форму, – но все равно жизнь всегда бесконечно возможнее, чем те формы, которые нам удалось изобрести. Соответственно, мы теперь понимаем, что не путем эволюции появляются новые формы, так ведь? Скажем, в эволюционной теории Дарвина (и в социологии существующего типа) приходится все время придумывать причины, почему, скажем, волк превратился в собаку, или обезьяна превратилась в человека. Изобретать причины приходится, потому что этого никогда не было, не случилось этого никогда и не могло случиться. Совершенно очевидно, что все иначе происходило. Точно так же как никакой социализм из капитализма никогда не возникал и не возникнет, так же как капитализм никогда не возникал из феодализма и не могло этого быть и т д. Где-то, когда-то, внутри чего-то изобретались какие-то другие формы, посредством которых люди экспериментировали. Я говорил вам об «экспериментальной вере» Пруста. Вера есть «ни почему» и «ни во что», так? Следовательно – не для того, чтобы приспособиться к каким-то материальным условиям. Я приведу пример, близкий к литературным делам, но структурно такой же, каковы структуры рассуждений: скажем, в истории и в социологии. Известно, что, когда вышел гетевский «Вертер», прошла целая волна самоубийств в Германии. Так же, как, известно, после появления психоанализа чаще стали случаться случаи психоза, описанного в психоанализе. Вы уже, наверно, увидели структурную аналогию. Значит, был написан «Вертер», и в мире появились вертеры, люди испытали что-то вертерообразное: размножились вертеры и т д. То есть мир как бы начинает работать на изобретенную форму, он подтверждает – что в мире, действительно, есть состояние, называемое «Вертером». Но в действительности все не так. Сначала людьми изобреталась форма испытания неизведанных до этого чувств и состояний, и потом стали происходить определенного рода события, работающие на эту форму. То же самое происходит и с социальными формами, все то же самое; и поэтому я вам цитировал Фурье, и поэтому настаивал на аналогии между некоторым внутренним духовным миром или некоторой внутренней концепцией Фурье и концепцией Пруста, хотя, казалось бы, совершенно разные, и действительно разные, люди: один – литератор, другой – безумный утопист-социалист. Вот из простой вещи вытекает довольно радикальное следствие для оценки существующих социальных теорий, концепций.
Так вот, с чего, собственно, я хотел начать сегодня: когда мы говорим о формах для опыта и к тому же еще держим в голове аксиому, что мир не может одноявиться (а это ведь то же самое, что сказать, что мир есть бесконечно более возможный, чем любые изобретенные нами формы), что весь мир не может явиться одним чувствительным явлением, – и вот, если мы держим это в голове, то мы, конечно, понимаем теперь, что в действительности то, что случилось сейчас (если изобретена форма), как бы кристаллизует позади себя явления, процессы, предметы – в том смысле, что они становятся источником опыта. Это как бы ретроактивная или рекуррентная причинная связь. Кристаллизация себя произошла, и она сделала причинами то, что было перед этим, и теперь это – причины последующего. Так же как причины самоубийства Вертера появились в мире, реально появились, после написания «Вертера». Значит, позади кристаллизуется причинная цепь. И у нас тут имплицирован и заложен и другой взгляд на человеческое существо, на всю проблему так называемой свободы и так называемой детерминации, или детерминизма человеческого существа и человеческих обществ. Что-то нам чудится уже другое, что в реальности происходит несколько иначе, чем дано нам в известных оппозициях свободы – необходимости, свободы и причины. И мы фактически пытаемся завоевать некоторый непричинный взгляд на действительность. Он, очевидно, условно, может быть назван структурным взглядом. Нас интересуют некоторые возможности, имплицированные или свернутые в формах, которые кристаллизуют нечто, что перед нами потом – в наглядном нашем представлении – выступает как причинно-следственная связь или причинно-следственная последовательность. Вспомните примеры, которые я приводил: люблю Альбертину… – потому что через любовь к Альбертине всечеловеческая и более универсальная моя потребность в нежности реализуется, и я научился именно так (вот теперь у нас все понятия работают, в том числе – «реальной мощи»), что реально могу, – не вообще нежность, а та, которую могу, и она связана с Альбертиной, так? И потом оказывается, что я живу в мире, в котором я не могу иметь нежность без Альбертины. То есть тогда уже Альбертина становится условием, причиной того, чтобы я вообще испытывал состояние нежности (хотя действительная структура прямо обратная, как я только что говорил). И вот теперь я не могу быть в нежном состоянии без чего-то, что делает Альбертина: без ее существования, без ее определенных поступков, без ее определенного отношения ко мне – теперь уже так. Значит, Альбертина не есть причина любви; что-то другое кристаллизуется на Альбертине – она входит в связанное пространство моих чувств, скажем так, в котором я прохожу какой-то путь. Пути проходятся всегда в связанном пространстве, то есть там предметы не безразличны один другому; скажем, для меня Альбертина – «пуп земли», а для другого – она просто обыкновенная толстощекая девушка, как выясняется по описаниям Пруста, с довольно крупной шеей (позднее психоаналитики находили в этом элементы описания мужской шеи и прослеживали через это гомосексуальные склонности Пруста; так это или не так, никакого значения не имеет, малоинтересные мысли, то есть мысль здесь не будет рождать других, тысячи себе подобных).
548
Fourier. L'attraction passionnйe. Jean-Jacques Pauvert, 1967. P. 58–59.
549
См.: Alain. Les passions et la sagess, Jules Lagneau, p. 761.