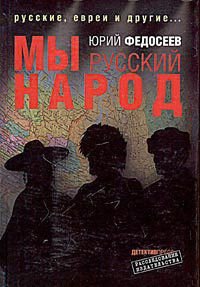О России. Три речи. - Ильин Иван Александрович (книги онлайн .txt) 📗
От этого чувства в нас разлита некая душевная доброта, некое органическое ласковое добродушие, спокойствие, открытость души, общительность. Русская душа легка, текуча и певуча, щедра и нищелюбива, — «всем хватит и еще Господь пошлет»… Вот они — наши монастырские трапезы, где каждый приходит, пьет и ест, и славит Бога. Вот оно наше широкое гостеприимство. Вот и эта дивная молитва при посеве, в которой сеятель молится за своего будущего вора: «Боже! Устрой и умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего, и произволяющего, благословляющего и неблагодарного»… И если в простых сердцах так обстоит, то что же думать о сердце царя, где «всей Руси было место» и где был источник любви, справедливости и милости для всех «сирот» без изъятия?..
Да, благодушен, легок и даровит русский человек: из ничего создаст чудесное; грубым топором — тонкий узор избяного украшения; из одной струны извлечет и грусть, и удаль. И не он сделает; а как-то «само выйдет», неожиданно и без напряжения; а потом вдруг бросится и забудется. Не ценит русский человек своего дара; не умеет извлекать его из-под спуда, беспечное дитя вдохновения; не понимает, что талант без труда — соблазн и опасность. Проживает свои дары, проматывает свое достояние, пропивает добро, катится вниз по линии наименьшего сопротивления. Ищет легкости и не любит напряжения: развлечется и забудет; выпашет землю и бросит; чтобы срубить одно дерево, погубит пять. И земля у него «Божия», и лес у него «Божий»; а «Божье» — значит «ничье»; и потому чужое ему не запретно. Не справляется он хозяйственно с бременем природной щедрости. И как нам быть в будущем с этим соблазном бесхозяйственности, беспечности и лени — об этом должны быть теперь все наши помыслы…
Россия поставила нас лицом к лицу с природой, суровой и захватывающей, с глубокой зимой и раскаленным летом, с безнадежною осенью и бурною, страстною весною. Она погрузила нас в эти колебания, сра-створила с ними, заставила нас жить их властью и глубиной. Она дала нам почувствовать разлив вод, безудерж ледоходов, бездонность омутов, зной засухи, бурелом ветра, хаос метелей и смертные игры мороза. И души наши глубоки и буреломны, разливны и бездонны, и научились во всем идти до конца и не бояться смерти.
Нам стал, по слову Тютчева «родим древний хаос»; и «безглагольные речи» его стали доступны и понятны нашим сердцам. Нам открылся весь размах страстей и все крайности верха и низа, «самозабвенной мглы» и «бессмертного солнца ума» (Пушкин), сонной вялости и буйной одержимости, бесконечной преданности на смерть и неугасимой ненависти на всю жизнь. Мы коснулись, в лице наших Святых, высшей, ангельской праведности; и сами изведали природу последних падений, безумства, злодейства и сатанинства. Из этих падений мы вынесли всю полноту покяяния и всю остроту совестных угрызений, сознание своего «ничтожества» и близость к смирению. Но тяжести смирения мы не вынесли и меры его не соблюли: мы впали в самоуничижение и уныние; и решили, что «мы — перед Западом — ничто». И не справившись с этим чрезмерным бременем, самоглодания и самоуничижения, вознаградили себя мечтанием о том, что «мы — народ богоносец», что мы «соль вселенной»… Мало того, мы не выдержали соблазна этой вседоступности, этой душевной раскачки и впали в духовное всесмешение: мы потеряли грани божественного и небожественного, неба и земли, добра и зла; мы попытались обожествить сладострастие и возвеличить грех; мы захотели воспеть преступление и прославить слепую одержимость; мы отвернулись от стыда, погасили разум, разлюбили трезвение, потеряли дорогу к духовной очевидности. И вот, перед революцией — хлыстовское начало захватило русскую интеллигенцию: возникло хлыстовское искусство, хлыстовская философия, хлыстовская политика, — политика вседоступности и вседозволенности… И воцарилась смута и все пошло верхним концом вниз…
Но соблюдем же наши дары и одолеем наши соблазны. Чувство беспредельности, живой опыт ночной стихии, дар пророческой одержимости — дала Нам наша родина. Отречься от этого дара — значило бы отречься и от нее и от себя. А о том, как понести и оформить этот дар, не падая и не роняя его, как очистить его от соблазнов, как освятить его молитвою и пронизать Божиим лучом, — об этом нам надо болеть и радеть неустанно… Ибо это есть путь к исцелению и расцвету всей русской культуры.
Всем тем Россия дала нам религиозно-живую, религиозно-открытую душу. Издревле и изначально русская душа открылась Божественному и восприняла Его луч; и сохранила отзывчивость и чуткость ко всему значительному и совершенному на земле.
«Нет на земле ничтожного мгновенья», сказал русский поэт; и к испытанью, к удостоверенью этого нам даны живые пути. За обставшими нас, «всегда безмолвными предметами» нам дано осязать незримое присутствие живой тайны; нам дано чуять веяние «нездешнего мира». И наши поэты, наши пророки удостоверили нам, что это духовное осязание нас не обманывает: орлим зраком видели они воочию эту «таинственную отчизну» и свое служение осмысливали сами, как пророческое.
Что есть жизнь человека без этой живой глубины, без этой «осиянности и согретости» внутренним светом? Это — земное без Божественного; внешнее без внутреннего; видимость без сущности; оболочка, лишенная главного; пустой быт, бездыханный труп, повапленный гроб; суета, прах, пошлость…
Из глубины нашего Православия родился у нас этот верный опыт, эта уверенность, что священное есть главное в жизни и что без священного жизнь становится унижением и пошлостью; а Пушкин и Гоголь подарили нам это клеймящее и решающее слово, которого кажется совсем не ведают другие языки и народы…
Пусть не удается нам всегда и безошибочно отличить главное от неглавного и священное от несвященного; пусть низы нашего народа блуждают в предчувствующих суевериях, а верхи гоняются сослепу за пустыми и злыми химерами. Страдания, посланные нам историей, отрезвят, очистят и освободят нас… Но к самому естеству русской народной души принадлежит это взыскание Града. Она вечно прислушивается к поддонным колоколам Китежа; она всегда готова начать паломничество к далекой и близкой святыне; она всегда ищет углубить и освятить свой быт; она всегда стремится религиозно приять и религиозно осмыслить мир… Православие научило нас освящать молитвою каждый миг земного труда и страдания: — и в рождении, и в смерти; и в молении о дожде, и в окроплении плодов; и в миг последнего, общего, молчаливого присеста перед отъездом; и в освящении ратного знамени, и в надписи на здании университета; и в короновании Царя, и в борьбе за единство и свободу отчизны. Оно научило нас желанию быть святою Русью…
И что останется от нас, если мы развеем и утратим нашу способность к религиозной очевидности, нашу волю к религиозному мироприятию, наше чувство непрестанного предстояния?
Созерцать научила нас Россия. В созерцании наша жизнь, наше искусство, наша вера…
У зрячего глаза прикованы к дали; у слепого очи уходят вглубь.
О, эти цветущие луга и бескрайние степи! О, эти облачные цепи и гряды, и грозы, и громы, и сверкания! О, эти темные рощи, эти дремучие боры, эти океаны лесов! Эти тихие озера, эти властные реки, эти безмолвные заводи! Эти моря — то солнечные, то ледяные! Эти далекие, обетованные, царственные горы! Эти северные сияния! Эти осенние хороводы и побеги звезд! От вас прозрели маши вещие художники. От вас наше видение, наша мечтательность, наша песня, наша созерцающая «лень»…
Красота учит созерцать и видеть. И тот, кто увидел красоту, тот становится ее пленником и ее творцом. Он мечтает о ней, пока не создаст ее; а создав ее, он возвращается к ней мечтой за вдохновением. Он вносит ее во все: и в молитву, и в стены Кремля, и в кустарную ткань, и в кружево, и в дела, и в поделки. От нее души становятся тоньше и нежнее, глубже и певучее; от нее души научаются видеть себя, свое внутреннее и сокровенное. И страна дает миру духовных ясновидцев.