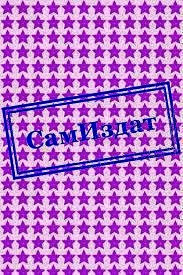Зло и свобода. Рассуждения в связи с «Религией в пределах только разума» Иммануила Канта - Капустин Борис Гурьевич (полные книги TXT) 📗
Тем не менее в практиках свободы она никак не может выступать в качестве инструмента или средства. Это обстоятельство, обозревая первые практики свободы, создавшие Современность и характерные для нее, Алексис де Токвиль зафиксировал в своем знаменитом афоризме: «Кто ищет в свободе что-то другое, нежели она сама, создан, чтобы служить» [13]. Дело не в том, как поясняет Токвиль, что свобода не может приносить с собой никаких иных благ, помимо своего собственного «очарования», что она не в состоянии решать насущные и даже самые что ни на есть материальные проблемы жизни людей. Она может делать и делает это. Но суть в том, что ее нельзя обрести и нельзя ее надолго сохранить, если к ней стремятся ради этих отличных от нее самой благ. В этом смысле свобода напоминает конечное, или высшее, благо (счастье), как его описывал Аристотель. Таким конечное благо делает именно то, что к нему стремятся ради него самого, а не ради какого-то еще более высокого блага, в достижении которого данное благо выступит всего лишь средством. Однако неотъемлемое свойство конечного блага – то, что оно является причиной и условием создания «низших» благ, образующих «тело» «высшего блага» [14].
Свобода в условиях Современности и оказывается таким конечным, или высшим, благом. А это ставит относительно практик свободы второй труднейший вопрос: каким образом в этом качестве свобода возникает в самой прозаической обыденной жизни людей, «материю» которой в нормальных условиях составляют и горизонты которой замыкают именно «низшие» блага? И каким образом в этом же качестве свобода может сохраняться в их жизни, поскольку она возвращается к «нормальности» после того, как гаснут протуберанцы свободы, выпущенные великими, но скоротечными моментами «творения истории»?
Кант, казалось бы, дает нам легкий ответ на оба вопроса, по сути дела устраняющий их как таковые. Свобода всегда, т. е. независимо от любых «эмпирических» обстоятельств, в которых может оказаться человек, обнаруживается как «нечто такое» в самом человеческом разуме [15], а потому то, что можно назвать кантовской «феноменологией сознания» [16], без труда находит свободу в качестве еще одного «факта чистого разума», точнее, она находит ее в качестве все того же «единственного факта чистого разума» (курсив мой. – Б. К.), которым является моральный закон [17]. Но в том-то и дело, что свобода, обнаруживаемая кантовской «феноменологией сознания», оказывается всего лишь и опять же идеей (или «понятием», как именует ее Кант в «Благой вести»), и мы вновь оказываемся перед великой «тайной» свободы, как только мы обращаем взор на практики человека.
Возможно, в целях дальнейшего прояснения разницы и возможных коллизий между идеей свободы и практиками свободы нам следует зайти с историко-философского конца. Бегло взглянем на то, как концептуализировал проблему свободы тот мыслитель, который, по общему признанию, оказал самое непосредственное влияние на этику Канта, – Жан-Жак Руссо и в чем именно его концептуализация свободы принципиально отличается от кантовской [18].
Руссо открывает первую главу трактата «Об общественном договоре» знаменитой формулировкой: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». При этом «в оковах» все – и подвластные, и их повелители (в еще большей мере, чем первые) [19]. Первая часть этой формулировки – «человек рождается свободным» – несомненно, нормативное утверждение, и его можно было бы перевести на более привычный для нас язык так: «человек должен быть свободным». Равным образом нелепо представлять это утверждение в качестве «метафизического» (будто бы означающего то, что в дообщественном состоянии человек был свободен), как это делают редакторы в остальном великолепного отечественного издания трактатов Руссо [20], или пытаться (квази)научно опровергать его, как это делает, к примеру, Иеремия Рентам, указывая на то, что, конечно же, люди рождаются в совершенно беспомощном состоянии и в полнейшей зависимости от своих родителей [21].
Однако самое интересное – это то, что позволяет Руссо сделать такое нормативное утверждение, причем именно в качестве универсального (человек вообще, т. е. все люди, «рождается свободным»). Ведь ничем похожим на кантовскую «феноменологию сознания», обнаруживающую «факт свободы» в самом чистом разуме, Руссо не занимается и целиком и полностью остается в мире «эмпирического»! Ответ на этот вопрос дает вторая часть приведенной выше формулировки: человек «повсюду» находится «в оковах». Это означает, что человек (предположительно все люди) осознаёт несвободу своего состояния, причем осознаёт ее именно как недолжное. Осознание наличного («эмпирического») состояния как недолжного и есть свидетельство того, что человек имеет некий стандарт, мерило, критерий оценки, с помощью которого это состояние опознаётся в качестве недолжного.
Не будем ставить перед Руссо невозможный в рамках его философии вопрос о том, откуда взялся у человека этот критерий оценки действительности [22]. Нам важнее отметить тот ход мысли, благодаря которому нормативное привязывается к «эмпирическому» и остается в его рамках. Этот ход можно передать следующим образом: так как мы «в оковах», т. е. поскольку мы осознаём наше наличное состояние как недолжное, постольку мы «рождены свободными». Осознание нашей несвободы доказывает, что в действительности мы не рабы, следовательно, действительность рабства является ложной действительностью (отсюда следует вся руссоистская критика «цивилизации»), и – в отличие от рабов, для которых действительность рабства является истинной, – мы вправе рассуждать о свободе и требовать ее, заявляя, что «человек рождается свободным» [23]. Много позднее Владимир Ленин разовьет эту мысль следующим образом: «Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам» [24].
В своих так называемых главных этических сочинениях Кант не делает такой ход. Он делает противоположный ход, вследствие которого свобода редуцируется к идее и расстается с «эмпирическим» миром. Этот кантовский ход, используя термины Руссо, можно передать так: мы «рождены свободными» только постольку, поскольку нигде и никогда не пребываем «в оковах». Само собой разумеется, мы можем нигде и никогда не пребывать «в оковах» уже не как человеческие существа, а только в качестве «ноуменального Я», которое и становится единственным, с позволения сказать, субъектом свободы в «главных» этических сочинениях Канта. Соответственно и свобода перемещается из «эмпирического» мира в тот мир, где ничего никогда «не возникает или не начинается», в чистый разум и в «умопостигаемый характер» [25], т. е. туда, где не возникает и не начинается и сама свобода. Никогда не возникающая и не начинающаяся свобода окончательно разводится с освобождением, которое ведь и есть по самому своему определению возникновение и начинание свободы.