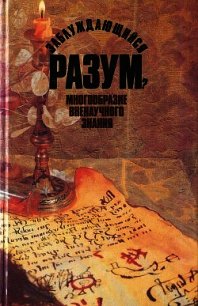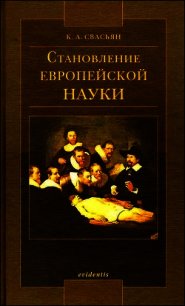Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки - Хорган Джон
Хотя я специализировался на английском языке, я записывался по крайней мере на один научный или математический курс в семестр. Работа над математической или физической проблемой приятно разнообразила мои занятия после запутанных гуманитарных заданий; я получал огромное удовлетворение, находя правильный ответ к задаче. Чем больше я расстраивался от иронического взгляда литературы и литературной критики, тем больше начинал ценить четкий, точный подход науки. Ученые умеют ставить задачи и решать их так, как не могут критики, философы и историки. Теории тестируются экспериментально, сравниваются с реальностью, а те, которые признаются неверными, отметаются. Силу науки нельзя отрицать: она дала нам компьютеры и реактивные самолеты, вакцины и термоядерные бомбы, технологии, изменившие ход истории — к лучшему или худшему. Наука в большей степени, чем любой другой тип знаний — литературная критика, философия, искусство, религия, — дает стойкий взгляд на природу вещей. Она нас куда-то ведет. Мое мини-прозрение в конце концов привело к тому, что я стал писать о науке. И я стал подходить к науке со следующим критерием: наука ставит вопросы, на которые можно найти ответы, по крайней мере в принципе, при условии достаточного количества времени и ресурсов.
До встречи с Пенроузом я принимал как само собой разумеющееся, что наука всегда будет развиваться — она бесконечна. Возможность того, что когда-нибудь ученые найдут такую убедительную истину, что она устранит все дальнейшие исследования, показалась мне, в лучшем случае, мечтой или гиперболой, необходимой для продажи науки (и научных книг) массам. Серьезность и двойственность, с которыми Пенроуз подходил к перспективам конечной теории, заставили меня пересмотреть мои собственные взгляды на будущее науки. Через некоторое время этот вопрос стал навязчивой идеей. Каковы границы науки, если они вообще есть? Наука бесконечна или она так же смертна, как мы? Если верно последнее, то виден ли конец? Быть может, уже вот-вот?
После первого разговора с Пенроузом я нашел других ученых, бьющихся над границами знаний: физиков, изучавших частицы и мечтавших о конечной теории материи и энергии; космологов, пытавшихся понять, каким образом и даже зачем была создана наша Вселенная; биологов, пытавшихся определить, как началась жизнь и какие законы управляли ею в дальнейшем; неврологов, прощупывавших процессы в мозгу, которые обусловливают сознание; исследователей хаососложности, которые надеялись при помощи компьютеров и новых математических технологий оживить науку. Я разговаривал и с философами, сомневавшимися в том, что наука может найти объективные, абсолютные истины. Несколько статей об этих ученых и философах я опубликовал в «Сайентифик Америкен».
Впервые задумавшись о написании книги, я представлял ее как серию портретов, со всеми недостатками, удивительных искателей истины и тех, кто отвергает истину, у которых мне посчастливилось взять интервью. Я намеревался оставить решение за читателями: пусть они определяют, чьи прогнозы о будущем науки имеют смысл, а чьи нет. В конце концов, кто на самом деле знает, каковы границы знания? Но постепенно я убедил себя, что один, вполне конкретный принцип построения является более подходящим, чем другие. Я решил отказаться от любой претензии на журналистскую объективность и написать открыто спорную книгу с личными соображениями. При заостренном внимании на отдельных ученых и философах в книге будут представлены и мои взгляды. Я решил, что этот подход скорее соответствует моему убеждению: большинство утверждений о границах знания, в конце концов, глубоко своеобразны и личностны.
Теперь общеизвестно, что ученые — это не только машины для приобретения знаний; ими руководят эмоции и интуиция, а также холодный разум и расчет. Ученые, как я выяснил, редко бывают такими человечными и находящимися во власти собственных страхов и сомнений, как в те минуты, когда они стоят перед границами знания. Кроме всего прочего, самые великие ученые хотят найти истину о природе (в дополнение к славе, грантам, должности и улучшению судьбы человечества), они хотят знать.Они надеются и верят, что истина достижима, это не только идеал или асимптота, к которым они вечно приближаются. Они, как и я, верят, что поиск знаний является самым благородным и самым значимым из всех видов человеческой деятельности.
Ученых, придерживающихся этих взглядов, часто обвиняют в надменности. Некоторые в самом деле надменны, и в очень большой степени. Но множество других, как я обнаружил, не так надменны, как нетерпеливы. Сейчас нелегкие времена для поисков истины. Занятиям наукой угрожают технофобы, активисты движения в защиту животных, религиозные фундаменталисты и, самое главное, ограниченные политики. Социальные, политические и экономические сдерживающие факторы сделают занятие наукой, в особенности чистой наукой, в будущем гораздо более трудным.
Более того, сама наука в своем продвижении вперед продолжает навязывать границы своей власти. Теория относительности Эйнштейна не допускает трансмиссию материи или даже информации на скоростях, превышающих скорость света; квантовая механика диктует, что наше знание микрокосма всегда будет неточным; теория хаоса подтверждает, что даже без квантовой неопределенности многие явления будет невозможно предсказать; теоремы о неполноте Курта Геделя отрицают возможность создания полного, последовательного математического описания реальности. А эволюционная биология продолжает напоминать нам, что мы — животные, получившиеся в результате естественного отбора не для того, чтобы открывать глубокие тайны природы, а чтобы размножаться.
Оптимисты, думающие, что они могут преодолеть все эти границы, должны разобраться еще с одним затруднением, возможно, с самым неприятным. Что будут делать ученые, если им удастся узнать все, что можно знать? Какова тогда будет цель жизни? Каков будет смысл существования человечества? Роджер Пенроуз признался в своей тревоге по поводу этой дилеммы, назвав свою мечту о конечной теории пессимистичной.
Учитывая эти моменты, не удивительно, что многие ученые, у которых я брал интервью для книги, чувствовали себя не в своей тарелке. Но это, готов поспорить, имеет другую, гораздо более непосредственную причину. Если ты веришь в науку, ты должен признать возможность — даже вероятность — того, что эпоха великих научных открытий закончилась. Под «наукой» я имею в виду не прикладную науку, а науку в самом чистом виде, первобытный человеческий порыв понять Вселенную и наше место в ней. Дальнейшие исследования не дадут великих открытий или революций, а только малую, незначительную отдачу.
Беспокойство по поводу влияния, оказываемого наукой
Пытаясь понять настроение современных ученых, я обнаружил, что идеи литературной критики могут в конце концов служить каким-то целям. В своем эссе «Беспокойство влияния» (1973) Гарольд Блум (Harold Bloom, The Anxiety of Influence)сравнивает современного поэта с Сатаной из «Потерянного рая» Мильтона [5]. Как Сатана боролся за утверждение своей индивидуальности, бросая вызов совершенству Бога, так и современный поэт должен вступить в эдипову борьбу, чтобы определиться относительно Шекспира, Данте и других мастеров. Усилия в конечном счете бессмысленны, говорит Блум, потому что ни один поэт не может надеяться достигнуть (не говоря уже о том, чтобы превзойти) совершенства таких предшественников. Все современные поэты по сути своей трагические фигуры, появившиеся слишком поздно.
Современные ученые тоже находятся в списке опоздавших, и их груз гораздо тяжелее груза поэтов. Ученым приходится мириться не только с «Королем Ли-ром» Шекспира, но и с законом тяготения Ньютона, теорией естественного отбора Дарвина и теорией относительности Эйнштейна. Эти теории не просто красивы, они также истинны, эмпирически истинны — настолько, насколько произведения искусства не смогут стать никогда.