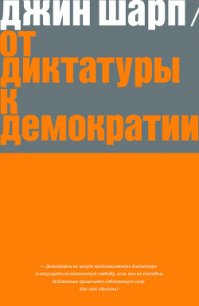Прозрачность зла - Бодрийяр Жан (читать книги онлайн бесплатно полностью без .txt) 📗
Здесь начинается порядок, а точнее, метастатический беспорядок размножения путем простого соприкосновения, путем ракового деления, которое более не повинуется генетическому коду ценности. Тогда начинают постепенно исчезать любовные приключения — приключения существ, наделенных половыми признаками; они отступают перед предшествующей стадией существ бессмертных и бесполых, которые, подобно одноклеточным организмам, размножались путем простого деления одного и того же вещества и отклонением от существующего кода. Современные технологически оснащенные существа — машины, клоны, протезы — тяготеют именно к этому типу воспроизводства и потихоньку насаждают его среди так называемых человеческих существ, снабженных признаками пола. Все современные исследования, в особенности биологические, направлены на совершенствование этой генетической подмены, этого последовательного, линейного воспроизводства, клонирования, партеногенеза, маленьких холостых механизмов.
В эпоху сексуального освобождения провозглашался лозунг максимума сексуальности и минимума воспроизводства. Сегодня мечтой клонического общества можно было бы назвать обратное: максимум воспроизводства и как можно меньше секса. Прежде тело было метафорой души, потом — метафорой пола. Сегодня оно не сопоставляется ни с чем; оно — лишь вместилище метастазов и механического развития всех присущих им процессов, место, где реализуется программирование в бесконечность без какой-либо организации или возвышенной цели. И при этом тело настолько замыкается на себе, что становится подобным замкнутой сети или окружности.
Метафора исчезает во всех сферах. Таков один из аспектов общей транссексуальности, которая, помимо самого секса, распространяется и на другие области в той мере, в какой они утрачивают свой специфический характер и вовлекаются в процесс смешения или заражения — в тот вирусный процесс неразличимости, который играет первостепенную роль во всех событиях наших дней.
Экономика, ставшая трансэкономикой, эстетика, ставшая трансэстетикой, сексуальность, ставшая транссексуальностью, — все это сливается в универсальном поперечном процессе, где никакая речь не сможет более быть метафорой другой речи, потому что для существования метафоры необходимо существование дифференцированного поля и различимых предметов. Но заражение всех дисциплин кладет конец такой возможности. Полная вирусная метонимия по определению (или, скорее, по отсутствию определения). Тема вируса не представляет собой перемещения биологического поля, ибо все одновременно и в равной степени затронуто вирулентностью, цепной реакцией, случайным и бессмысленным размножением, метастазированием. И может быть, отсюда и наша меланхолия, так как прежде метафора была такой прекрасной, такой эстетичной, так играла на различиях и иллюзии различий. Сегодня метонимия (замена целого и простых элементов, общая коммутация слов) строится на крушении метафоры.
Взаимное заражение всех категорий, замена одной сферы другой, смешение жанров… Так, секс теперь присутствует не в сексе как таковом, но за его пределами, политика не сосредоточена более в политике, она затрагивает все сферы: экономику, науку, искусство, спорт… И спорт уже вышел за рамки спорта — он в бизнесе, в сексе, в политике, в общем стиле достижений. Все затронуто спортивным коэффициентом превосходства, усилия, рекорда, инфантильного самопреодоления. Каждая категория, таким образом, совершает фазовый переход, при котором ее сущность разжижается в растворе системы до гомеопатических, а затем до микроскопических доз — вплоть до полного исчезновения, оставляя лишь неуловимый след, словно на поверхности воды.
Таким образом, СПИД связан скорее не с избытком секса и наслаждения, а с сексуальной декомпенсацией, вызванной общим просачиванием секса во все области жизни, с этим распределением секса по всем тривиальным вариантам сексуальной инкарнации. Когда секс присутствует во всем, теряется иммунитет, стираются половые различия и тем самым исчезает сама сексуальность. Именно в этом преломлении принципа сексуальной реальности на фрактальном, нечеловеческом уровне возникает хаос эпидемии.
Может быть, мы еще сохраним память о сексе, подобно тому, как вода хранит память о разжиженных молекулах, но, строго говоря, это будет лишь молекулярная, корпускулярная память о прошлой жизни. Это не память о формах и особенностях — о чертах лица, цвете глаз, — ведь вода не может помнить формы. Таким образом, мы храним отпечаток безличной сексуальности, разведенной в бульоне политической и информационной культуры и, в конечном итоге, в вирусном неистовстве СПИДа.
Закон, который нам навязан, есть закон смешения жанров. Все сексуально, все политично, все эстетично. Все одновременно принимает политический смысл, особенно с 1968 года: и повседневная жизнь, и безумие, и язык, и средства массовой информации, и желания приобретают политический характер по мере того, как они входят в сферу освобождения и коллективных, массовых процессов. В то же время все становится сексуальным, все являет собой объект желания: власть, знания — все истолковывается в терминах фантазмов и отталкивания; сексуальный стереотип проник повсюду. И одновременно все становится эстетичным: политика превращается в спектакль, секс — в рекламу и порнографию, комплекс мероприятий — в то, что принято называть культурой, вид семиологизации средств массовой информации и рекламы, который охватывает все — до степени Ксерокса культуры. Каждая категория склонна к своей наибольшей степени обобщения, сразу теряя при этом всю свою специфику и растворяясь во всех других категориях. Когда политично все, ничто больше не политично, само это слово теряет смысл. Когда сексуально все, ничто больше не сексуально, и понятие секса невозможно определить. Когда эстетично все, ничто более не является ни прекрасным, ни безобразным, даже искусство исчезает. Это парадоксальное состояние вещей, которое является одновременно и полным осуществлением идеи, это совершенство современного прогресса, и его отрицание, ликвидация посредством переизбытка, расширения за собственные пределы можно охарактеризовать одним образным выражением: трансполитика, транссексуальность, трансэстетика.
Нет больше ни политического, ни художественного авангарда, который был бы способен предвосхищать и критиковать во имя желания, во имя перемен, во имя освобождения форм. Это революционное движение завершено. Прославленное движение современности привело не к трансмутации всех ценностей, как мы мечтали, но к рассеиванию и запутанности ценностей. Результатом всего этого стала полная неопределенность и невозможность вновь овладеть принципами эстетического, сексуального и политического определения вещей.
Пролетариату не удалось опровергнуть самого себя в качестве такового — это доказала полуторавековая история со времен Маркса. Ему удалось опровергнуть себя в качестве класса и тем самым упразднить классовое общество. Возможно дело в том, что он и не был классом, как это считалось, — только буржуазия была подлинным классом, и, следовательно, только она и могла опровергнуть самое себя, что она с успехом и сделала, заодно уничтожив капитал и породив бесклассовое общество. Но это общество не имеет ничего общего с тем, которое должно было быть создано в результате революции и отрицания пролетариата как такового. Сам пролетариат просто рассеялся вместе с классовой борьбой. Несомненно, если бы капитал развивался согласно своей противоречивой логике, он был бы уничтожен пролетариатом. Анализ Маркса остается абсолютно безупречным. Он просто не предвидел, что перед лицом неминуемой угрозы капитал может в какой-то мере трансполитизироваться, переместиться на другую орбиту — за пределы производственных отношений и политических антагонизмов, автономизироваться в виде случайной, оборотной и экстатической формы, и при этом представить весь мир во всем его многообразии по своему образу и подобию. Капитал (если его еще можно так называть) создал тупик в политической экономии и в законе стоимости: именно на этом направлении ему и удается избежать собственного конца. Отныне он действует вне своих собственных конечных целей и совершенно изолированно. Первым проявлением этой мутации стал, безусловно, кризис 1929 года; крах 1987 года — лишь последующий эпизод того же процесса.