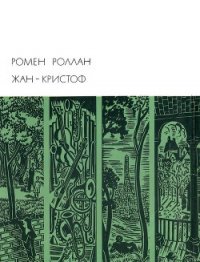Загадка Толстого - Алданов Марк Александрович (книги бесплатно без регистрации полные txt) 📗
Как известно, Лев Николаевич был очень растроган письмом г. М. Это с одной стороны представляется невероятным: до последних дней жизни Толстой сохранил способность временами отрешаться от своей официозной кротости и взором старого орла, насквозь пронизывающим душу, сверху вниз, как ему подобало, глядеть на малых и больших людей. Он знал цену своим корреспондентам и порою очень зло их вышучивал. В одну из таких минут, раздраженный непрошенными вмешательствами в свою жизнь, он писал: «Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть». Если принять в расчет кроткий стиль Толстого, эти слова означали нечто вроде «позвольте вам выйти вон». В одну из таких минут, великий писатель не стал бы читать послания г. М. и отправил бы его в корзину, как целый ряд других писем такого же рода, немного менее патетических и немного более грубых. Но с другой стороны, оставаясь последовательным, Лев Николаевич ничего не мог возразить автору письма: он должен был растрогаться при его чтении хотя бы ex officio {126}. Ведь он сам учил добрых три десятка лет, что только одно «размягчение», хотя бы минутное, есть вещь, а прочее все — гниль. Ведь если у толстовцев извращена перспектива, установленная самой жизнью, если они в большом видят малое, а в малом — большое, то этот противный природе результат мог быть достигнут лишь таким гигантом, как сам Лев Николаевич.
Весь этот эпизод имеет чисто показательное значение. Такие толстовцы, как, например, В. Г. Чертков, а равно и г. Наживин, конечно, не ответственны за письмо г. М. Но их мысли свидетельствуют о почти таком же извращении перспективы. Над всем тем, что признает культурное человечество, толстовцы ставят общий могильный крест; наука, искусство, общественная жизнь, политическая борьба равнодушно ими погребены на дне мрачной fosse commune {127} неподдельного и абсолютного нигилизма. Кто знает, может быть, толстовцы правы; ведь в конце концов на вопрос: что есть истина? за две тысячи лет не последовало решающего ответа. Человечество по сию пору вертится между полюсами Нагорной Проповеди и Экклесиаста. Но что же дает толстовцам столь необычайную уверенность в собственной правоте? Или такое уж счастье принесло им их учение? Не Бог знает, как велико это счастье, не Бог знает, как завидно душевное спокойствие толстовцев, если судить хотя бы по книгам г. Наживина, исполненным боли, гнева и раздражения. Да и что за критерий счастье?.. Почему не приходит им, толстовцам, в голову, что с мертвым они хотят закопать в могилу живое? Может быть, Французская революция и свобода мысли, «Фауст» и «Война и мир», принцип относительности и философия Шопенгауэра имеют не меньшую самостоятельную ценность, чем те опыты душевной стерилизации, которым они предаются столь ожесточенно? Толстовцам ненавистна бактериология, вносящая «разврат материализма» и .-отчуждение в людскую среду. Но, быть может, это ужасное зло хоть немного покрывается открытиями Пастера, ежегодно спасающими жизнь сотням тысяч людей. Для толстовцев «никому не нужные пустяки» — теория Клерка Максвелла, изучая которую другой великий ученый задавал себе фаустовский вопрос: «War das ein Gott, der diese Zeichen schrien?» {128} Но, быть может, усилие человеческой мысли, создавшее эту теорию, хоть отчасти способно сравниться с теми потугами, в которых толстовцы видят весь смысл человеческого существования? В своих обязательных дневниках они регистрируют эти потуги, свои нравственные подъемы и понижения, с педантичностью биржевого гофмаклёра или счетовода казенной палаты. «Число такое-то. Мучительно хотелось котлет, но превозмог свою плоть и ел вареники с творогом. Бодрое настроение весь день. Молился. Хорошо. Слава Богу». «Число следующее. Нынче в 8 часов вечера не удержался и съел полфунта убоины. Грустное сознание греха. Уныние. Тяжелые мысли. Господи, пошли мне сил бороться!» Это почти не карикатура: дневник любого толстовца, в сущности, сводится к записям подобного рода. И эти люди убеждены (как они ни бранят себя для смирения), что вся мудрость мира улеглась в их мучительные потуги! Может быть, они похожи на Сократа и на Эпиктета, я не спорю; но они еще больше похожи на Ивана Ивановича, который тщательно регистрировал каждую дыню, которую он съедал.
Как не видят они, эти духовные Танталы, что их мучительная работа есть хождение по кругу вокруг точки, ставшей в их сознании центром Вселенной? В их делах нет творения, — лучшей радости, лучшей гордости, выпадающей на долю человека. Есть фикция творения, пресловутая «работа над собой». Но единственным ее результатом в девяти случаях из десяти остается измученный комок нервов, а в десятом — нечто условное и мгновенное, бесследно канущее в бездну, как только venit summa dies {129}, как только мопассановская гостья отдает свой неизбежный визит... Они, толстовцы, лишены даже того удовольствия, которое у французов называется le beau r?le {130}. Несмотря на свое профессиональное смирение, они всех, кто не с ними, считают безумцами, не ведающими, что творят, тогда как их противники, для которых смирение не обязательно, не участвуя в погребальном хоре толстовцев, хотя недоумевают и сторонятся, но отдают должное их бескорыстному, упорному стремлению к таинственному призраку добра.
IX.
«Человек есть общественное животное», — сказал старик Аристотель. Толстой, пожалуй, готов принять эту формулу; только он придает ей несколько своеобразный смысл. Он как будто говорит: в человеке общественно животное.
Вся жизнь Толстого, в особенности до «кризиса», была систематическим уклонением от общественной повинности {131}. Даже в эпоху своей веры в «прогресс» он от политики держался в стороне, и не просто в стороне, а как-то на свой особый лад. Ездил к Прудону, к Герцену и вместе с тем был, по словам Тургенева, «далеко не красный», свидетельствовал визитом почтение Лелевелю и в 1863 году предполагал вступить в ряды действующей русской армии. В «Анне Карениной» Толстой ядовито высмеял двумя — тремя словами и «партию Бертенева (то есть Каткова) против русских коммунистов», и московских «честных людей (с ударением), способных при случае подпустить шпильку правительству», и черняевских добровольцев, и либералов а 1а Голенищев, и славянофилов вроде Кознышева. Странно сказать, но отношение Толстого к политике в ту пору очень походило на тон, который был принят в доме князя Николая Андреевича Болконского, когда речь заходила о европейских событиях. Старый князь, как известно, «был убежден, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело». Тот же тон веселого недоумения умел выдерживать по отношению к политике Толстой вплоть до конца 70-х годов (он порою впадал в него и гораздо позже). Это обстоятельство, кроме всего прочего, закрывало для него доступ к богатейшим художественным темам. Уже в грандиозном замысле «Войны и мира» он мог отделаться от грозившей ему опасности только тем, что в нужную минуту написал слово «конец» и назвал эпилогом главу, которая, в сущности, представляла собой начало нового романа. Мы так и не знаем, что вышло из петербургской поездки Пьера Безухова, как сбылся вещий сон Николеньки Болконского, и пришлось ли Николаю Ростову рубить во главе эскадрона своих лучших друзей по приказу Аракчеева. «Тугендбунд, — говорит в эпилоге Денисов, — я этого не понимаю, да и не выговорю... не нравится, — так бунт». Бунта Толстой так-таки не написал; из его «Декабристов» ничего не вышло, несмотря на неоднократные возвращения автора к этому сюжету. Легко понять, что из подобной темы нельзя было изгнать политику или ограничиться ироническими стрелами, брошенными равномерно в разные концы: для художника было невозможно поместиться над Сенатской площадью, не становясь ни на одну из ее сторон. Так мы и остались без «Декабристов» Толстого. А между тем фантазия с трудом представляет, какое чудо искусства мог создать из такого сюжета такой художник! Толстой, который знал себе цену, в котором, несмотря на все отречения, художественный инстинкт жил до последнего дня {132}, отлично это понимал. Он писал художественное о вреде водки, о фальшивом купоне, о чем угодно, но этой темы не коснулся; «вылизал изнутри» психологию купца Брехунова, маркера Петрушки, лошади Холстомера, но оставил без внимания таких людей, как Пестель, Лунин, Рылеев, Бестужев, Орлов, Волконский.