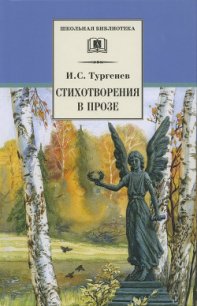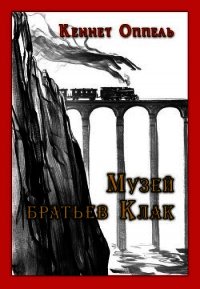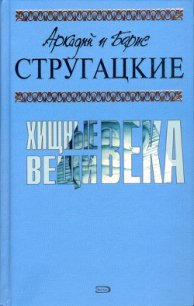Возвращённые метафизики: жизнеописания, эссе, стихотворения в прозе - Зорин Иван (бесплатные версии книг txt) 📗
«Женщины и сны одинаково загадочны. Они могут подарить наслаждение, а могут - яд. Но, разжигая внутри огонь, приближают к смерти...»
Следуя древней традиции, Моше бен Леви учил также, что жизнь - один из снов. Когда в этом сне за ним пришли стражи из святого братства, он закутал лицо платком на манер бедуинов. Но его выдали глаза. «Сефард!» - определили слуги Реконкисты. «Жаль, что ты не расскажешь нам предстоящего сна», - смеялись они, протыкая его короткими копьями.
Федот
В провинциальном захолустье конца позапрошлого века Федота прозвали отказчиком. Жизнь в городке текла скучно, а Федот отказывался даже от скудных развлечений. Его не привлекали ни приезд столичной певички, ни бродячий цирк, ни свадьба полицмейстера, ни похороны известного разбойника. На этот счёт у него была целая теория. Отрицая земные впечатления, он готовил себя к загробной бессобытийности. «Зачем напиваться водой, если предстоит жажда?» - рассуждал он.
Поначалу земляки опасались за его рассудок, но вскоре убедились, что Федот - человек здравый, даже практичный. Он никогда не покупал хомута вперёд лошади и не делал предложения женщине, не разведясь с предыдущей. Впрочем, следуя своей странной теории, он вскоре растерял и знакомых, и врагов, и жён, раздал имущество и остался гол, как сокол. Теперь он стоял посреди ратушной площади перстом, указующим на земную тщету, замерзая под рогожей и намокая под липкими каплями осеннего дождя. Кто-то надоумил его отказаться от пищи, и он стал сохнуть, как лужа на солнце. Один вихрастый школяр хотел подсказать ему отказаться и от воды, но мальчишку вовремя одёрнули.
Федот не был искушён в философии, и ему не приходило в голову отречься и от отречения, вернувшись, таким образом, на круги своя. Бросив однажды пить вино, он не думал отказываться от трезвости.
Но втайне он надеялся обмануть смерть, когда та явится с пустым мешком. «Федот, да не тот!» - повторял он лиловыми от холода губами. «Что же ты не хочешь освободиться и от души?» - спросил его учитель греческого. Но Федот не нашёлся с ответом. Говорили, правда, что он отказался от слов и потому промолчал. «Может, когда придёт смерть, и брать будет нечего, -оскалился учитель, слывший остряком. - Ведь душа отпечатком лежит на вещах, словах и своих спутницах - душах...»
Федоту было невдомёк, что, встав на путь отказа, невозможно дойти до конца. Отказавшись от грехов и добродетели, оставив единственным принципом отсутствие принципов, он держал мир на расстоянии вытянутой руки, как злую собаку. Но мир отчаянно льнул к нему, неотвязный, как тень.
В своей глухой дыре он слыл достопримечательностью, в отсутствие забав, служил забавой. И вот в унылый зимний месяц, когда небо навалилось гробовой доской, а от скуки некуда было деться, жители решили его разыграть. Федот считал, будто мир создан для него и исчезнет с его исчезновением. Проезжающая коляска, по его мнению, появлялась на площади, чтобы он мог получше разглядеть бороду кучера, летучая мышь касалась его крылом, чтобы он спал внимательнее и не пропустил вещих снов, а солнце вставало ни свет ни заря, чтобы его разбудить. Он во всём видел знак. И этим решили воспользоваться. Сговорившись, ему стали подсовывать различные предметы, возвращать когда-то розданное, добавляя к его мере две своих. Благодеяния посыпались на Федота, как из рога изобилия, ему стало чудиться, что мир повернулся к нему лицом, что, раскрыв объятия, смеётся широко и заразительно. Федот и раньше не отличался привлекательностью, а невзгоды, сгорбив фигуру, превратили его в гнома, но теперь местные красавицы, проходя, одаривали его ослепительной улыбкой. Наступив на горло собственной песне, которую тянул все годы, он теперь азартно резался в карты, вызывая неизменное восхищение. Он угадывал, под каким колпаком лежит шарик у мошенников, и легко решал чужие пересуды, слывя оракулом в семейных делах. Скрывая усмешку, его благодарили до слёз, по-собачьи заглядывая в глаза, искали дружбы, и постепенно он уверился в своём могуществе. Федоту даже предложили избираться городским головой, и он уже чесал в затылке, соглашаясь принять должность только вместе с дочкой губернатора. Его распирало самодовольство, одной ногой он стоял на земле, другой -вознёсся на небеса.
И тут, распахивая пустой мешок, за Федотом явилась смерть. Он глянул в зиявшую бездну и побледнел.
- Федот, да не тот... - начал он скороговоркой.
- Тот, тот! - улыбаясь, перебила та, которую не отвергнуть.
Федот умер в неведении. Сограждане не раскрыли перед ним карт, это было бы слишком жестоко.
Грицько
Грицько вырос на босоногом хуторе близ Диканьки, и мать пропустила момент, когда он вдруг стал чужим. «Так бывает, - успокаивали её товарки, имевшие сыновей постарше. -Не успеешь оглянуться, а он уж отпустил усы и рубит палкой горшки на плетне». Грицько был черняв, востроглаз и с каждым годом наматывал оселедец на ухо лишним витком. «Весь в батьку», - шептались за его спиной. Отца Грицько не видел, тот был лихой козак и сложил буйную голову на чужбине, продолжая до последнего закусывать солонину салом, а горилку запивать брагой. Едва разбирая «Отче Наш», он считал свою веру единственной, принимал за правду мифы своей деревни, и ему легче было изрубить человека в капусту, чем с ним согласиться.
В учёбу Грицька отдали великовозрастным, и бурса не успела смутить его простодушия. Его исключили после первых же розог, которые он вернул поровшему его дядьке. Затем след Грицька теряется. Лишь через несколько лет он всплывает за порогами, в Сечи. «Чи умрёшь, чи повиснешь - усё один раз мати родила!» -тянули сиплые от горилки голоса. И Грицько повторял чужие истины, которые становились своими. «Что живот? - крутя ус, выставлял он пятки к костру. - Живот растёт при жизни, а слава, как борода, - и после смерти». Его товарищами стали лугари, степовики и гайдамаки, все эти охримы копыто, матвеи кривоусы, степаны наливайко, его окружили бесшабашные захары подобайло и отчаянные иваны пни. Их сажал на кол шляхетский суд, четвертовали москвитяне, топтала орда. Одетые в звериные шкуры, обедавшие скудной тетерею, они не щадили жизни - ни своей, ни чужой. Их философией была смерть, религией - смутная надежда, что человек выше языка, на котором говорит, и времени, в котором живёт. Тряся чубами, они встречали хлебом-солью, драли глотки, а потом разбредались по куреням есть кашу такую густую, что в ней стояла ложка. «Принимай мир, каким есть, чтобы не уйти из него с озлобленным сердцем», - учили они. «А зачем живёт, не знает сам гетман, - чесали крепкие, как репа, затылки, - а уж какая голова!»
И Грицько присягнул их братству. Худое веселье стало для него лучше добрых слёз, а худая драка - лучше доброго мира. Со временем он научился мочиться с седла, расчёсывать чуб по тени, а в дождь размахивать клинком так, чтобы ни одна капля не попала на голову. Быстрее он вращал только ложку, не опасаясь пронести кусок мимо рта. Его лысый череп покрывался письменами сабель. Теперь он сворачивал направо, пуская тень налево, а эхо превращало его «да» в «нет». Раз его обвинили в том, что он закуривает люльку вперёд атамана, в другой - выбрали кошевым: водили по табору, мазали, чтобы не задавался, грязью, а через год, как водится, судили. «Разве я покушался на вольности?» -оправдывался он, помешивая в котелке похлёбку. - И разве не держал вас в узде?»
Вместе со своей ватагой Грицько взбирался к орлиным гнёздам, стрелял из пищали, сыпал на рану порох и на поединках заколол не одного обрезанца, который плевал на икону. Плавая хищной рыбёшкой, он цеплялся за борт торговых галер, и в обшитой тростником чайке ему было море по колено. Скоро он постиг, что слава не делится на дурную и добрую, и с тех пор его не грызло раскаяние. Спасая церковь, он заводил коня в мечеть и без зазрения совести грабил костёл. Его храмом были скитания, защищая Крест, он поклонялся Дороге.
Между войной и попойкой он успел обвенчаться с черноокой козачкой, и на хуторе у него рос сын, которого он не увидел. Для Грицька не было до и после. Вцепившись в гриву настоящего, он скакал мимо событий, как ветер мимо хаты, но не мог усидеть в седле с самим собой. «Мы приходим в мир со знанием, а уходим, его утратив», - было бы его кредо, сумей он его сформулировать. Грицько был уверен, что стоит ему на секунду задуматься, стоит, лёжа под деревом, обхватить голову руками, как он разгадает загадку мироздания. Но за свою короткую жизнь он не нашёл этой секунды. Он знал только, что есть надо так, чтобы за ушами трещало, а жить - чтобы не мучила скука, чтобы душа, гуляя по свету, не разлучалась с телом.