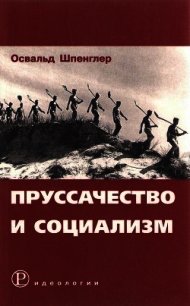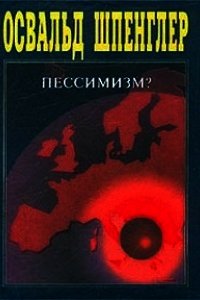Годы решений - Шпенглер Освальд (читать полностью книгу без регистрации .txt) 📗
Но как «общество» западноевропейской цивилизации, называющее себя в сегодняшней Англии средним классом, а на континенте — буржуазией (ведь оно также забыло о крестьянине [186]), относится после 1770 года и особенно после 1848 года к факту прогрессирующей революции снизу, которая уже давно презирает и высмеивает собственный ранний либеральный этап и его требования в духе политического Просвещения — свободу прессы, объединений, собраний и всеобщее избирательное право, — после того как до последней возможности использовало их в целях разложения? Эту позорную главу еще предстоит написать будущим историкам. Возникнув на основе древнейших человеческих фактов господства, сословия и собственности, общество терпело, «разделяло», праздновало и поддерживало нигилистический удар по себе. На такое интеллектуальное самоубийство в прошлом столетии была большая мода.
Необходимо вновь и вновь констатировать, что это общество, ныне переживающее переход от культуры к цивилизации, является больным, утратившим инстинкты и разложившимся духовно. Оно не защищается. Оно смакует издевательства над собой и свое разложение. Начиная с середины XVIII века, оно все сильнее распадается на два лагеря: на либеральные и на лишь безнадежно обороняющиеся против них консервативные круги. На одной стороне находится небольшое число людей, которые, руководствуясь глубоким инстинктом, видят политическую действительность, понимают происходящее и направление его движения, пытаются ограничить, смягчить и предотвратить. Это личности типа представителей круга Сципиона в Риме, на основе мировоззрения которого Полибий написал свой исторический труд, Берк, Питт, Веллингтон и Дизраэли [187] в Англии, Меттерних и Гегель, позже Бисмарк в Германии, Токвиль [188] во Франции. Они пытались защитить охранительные силы старой культуры: государство, монархию, армию, сословное сознание, собственность, крестьянство, даже если сами имели претензии к ним. Они были заклеймены как «реакционеры» — заклеймены словом, придуманным либералами и используемым сегодня их марксистскими питомцами против них же самих, после того, как они попытались не допустить крайних последствий своих собственных действий (вот и весь хваленый прогресс). На другой стороне находятся почти все те, кто обладает городским рассудком или, по крайней мере, восхищается им как признаком современного превосходства и как силой будущего – будущего, которое уже сегодня является прошлым.
Сегодня журнализм превозносится до господствующего выражения времени. Это критический esprit XVIII века, разбавленный и упрощенный на потребу духовных посредственностей. Не стоит забывать, что греческое слово krinein означает разделять, разбирать, разлагать. Драма, лирика, философия, даже естественные науки и историография [189] превращаются в передовые статьи и фельетоны, с явной направленностью против всего, что консервативно и что некогда внушало почтение. Партии становятся либеральной заменой сословий и государства, а революция в форме периодической массовой предвыборной борьбы всеми средствами денег, «духа» и даже, по методу Гракхов, насилия, становится конституционным процессом. Правление как смысл и задача государственного существования или становится объектом нападок и издевательств, или низводится до уровня партийных сделок. Но слепота и трусость либерализма идет дальше. К разрушительным силам, всходящим на дрожжах крупных городов, проявляется терпимость, которой они не требуют. «Приличное» общество Западной Европы с омерзительной сентиментальностью восхищается русскими нигилистами и испанскими анархистами, их восхваляют, приглашают из одного элегантного салона в другой. В Париже, Лондоне и, прежде всего, в Швейцарии заботливо охраняется не только их существование, но и их подпольная деятельность. Либеральная пресса проклинает темницы, в которых томятся эти мученики свободы, и ни слова не говорит о бесчисленных защитниках государственного порядка, простых солдатах и полицейских, которые при исполнении своего долга гибнут от взрывов и пуль или становятся калеками [190].
Понятие пролетариата, специально созданное социалистическими теоретиками, принимается буржуазией. В действительности оно не имеет ничего общего с тысячами видов тяжелой и сложной работы, начиная с ловли рыбы и заканчивая печатаньем книг, от лесоповала и до вождения локомотива. Прилежными и обученными рабочими оно презирается и воспринимается как ругательство. Оно нужно исключительно для того, чтобы включить их в сброд крупных городов с целью свержения общественного порядка. Именно либерализм переместил его в центр всеобщего политического мышления, используя как устоявшееся понятие. Под именем натурализма возникла убогая литература и живопись, которые вознесли грязь до эстетического удовольствия, а пошлые чувства и мысли пошлых людей — до уровня обязательного мировоззрения. Под «народом» понималась уже не вся нация, а только та часть городской массы, которая восстала против подобной общности. Пролетарий предстает как герой на сцене прогрессивного мещанства, а вместе с ним проститутка, тунеядец, подстрекатель и преступник. С этого момента становится модным и современным смотреть на мир снизу, из забегаловки, из темного переулка. Именно тогда в либеральных кругах Западной Европы, а не в России в 1918 году, возник «пролеткульт». Тяжелая по своим последствиям фантазия, состоящая наполовину из вранья, наполовину из тупости, начинает занимать головы образованных и полуобразованных людей — «рабочий» становится собственно человеком, собственно народом, смыслом и целью истории, политики и общественного внимания. При этом забывается, что все люди трудятся, и, самое главное, что другие выполняют большую и более важную работу: изобретатель, инженер, организатор. Больше никто не решается подчеркнуть ранг и качество результатов труда как меру его ценности. Трудом считается лишь измеренное в часах время. «Рабочий» при этом является бедным и несчастным, ограбленным, голодающим и эксплуатируемым. Только к нему применимы слова «забота» и «нужда». Уже никто не думает о крестьянах низкоурожайных областей с их неурожаями, опасностью града и холода, трудностями со сбытом продукции. Так же как и о жалком существовании бедных ремесленников в районах с развитой промышленностью, о трагедиях мелких торговцев, рыбаков, изобретателей, врачей, которые постоянно должны думать о своем куске хлеба и тысячами разоряются незаметно для других. Один только «рабочий» достоин сострадания. Лишь его одного поддерживают, обеспечивают и страхуют. Более того, его делают святым, идолом времени. Весь мир вертится вокруг него. Он центр экономики и любимое дитя политики. Бытие всех лишь ради него. Большинство нации должно служить ему. Можно насмехаться над тупым и толстым крестьянином, ленивым чиновником, нечестным лавочником, не говоря уже о судье, офицере и предпринимателе — излюбленных объектах злобных шуток, но никто не посмел бы с подобной издевкой глумиться над «рабочим». Все остальные являются бездельниками, только не он. Все эгоисты, кроме него. Вся буржуазия машет кадилом перед этим фантомом; кто так же много работает в своей жизни, тот должен стать перед ним на колени. Его существование выше всякой критики. Буржуазия сделала подобный взгляд на вещи господствующим, а ловкие «представители народа» паразитируют на этой легенде. Они рассказывали ее наемным рабочим до тех пор, пока те в нее не уверовали и действительно не почувствовали себя измученными и несчастными, пока они полностью не утратили всякое чувство меры в оценке своих заслуг и своей значимости. Что касается демагогических тенденций, то либерализм является формой, с помощью которой больное общество пытается покончить с собой. Придерживаясь этого взгляда, оно предает самого себя. В классовой борьбе, которая ожесточенно и беспощадно ведется против него самого, оно готово к политической капитуляции, после того как само помогло выковать оружие для врага. Только консервативный элемент, который в XIX веке был очень слаб, может в будущем предотвратить такой конец.