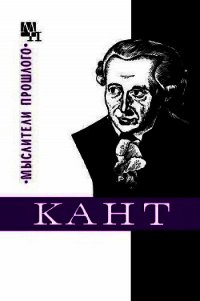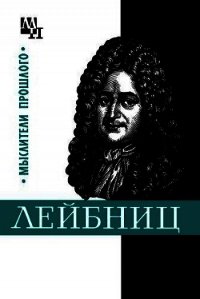Давид Юм - Нарский Игорь Сергеевич (книги онлайн бесплатно txt) 📗
В атмосфере полной субъективности Юму было не по себе, и он отправился на поиски объективности. Поэтому, когда в третьей книге «Трактата о человеческой природе» он пишет, что прекрасное — это качество, зависящее от отношения людей к вещам, он дополняет это указанием на то, что данное отношение зависит от чувств эгоизма и симпатии, то есть от таких составляющих человеческой природы, которые «устремлены» за пределы узкосубъективного мира вовне, в объективный мир.
2. Прекрасное как полезное и целесообразное. Проблема художественной правды
Об эгоизме в общефилософском и этическом планах прежде в Англии писали Гоббс, Локк и Мандевиль, а во времена Юма во Франции много пишут Гольбах и Гельвеций. Проблема же симпатии оказалась в фокусе внимания не только почти во всей тогдашней английской этике, но и в эстетике. Полемизируя со взглядом Гоббса, Шефтсбери утверждал, например, что человеку свойственна изначальная доброта, а добродетель есть естественное состояние человеческой души. Этому состоянию, или чувству, уже Хатчесон дал особое название «спокойной страсти» (calm passion), которая просветляет и облагораживает поведение людей. Как и его учитель Шефтсбери, он тесно связал внутреннее чувство доброго с чувством прекрасного, полагая их оба врожденными. Общим выводом английских моралистов был тот, что переживание прекрасного и верный вкус суть такие же естественные состояния человека, как и его альтруистические наклонности, и свойственны ему вместе с последними.
Отправляясь от этого вывода, Юм извлекает из человеческой природы масштаб эстетических оценок. Человеческая природа обладает способностью к вариациям, но только в рамках, заданных Природой с большой буквы (это дало Юму право заметить, что человек постоянен в своем непостоянстве). И потому человеческая природа полагает колебаниям во вкусах определенные границы. Мало того, она создает основу для развития таких вкусов, которые приблизительно одинаковы для большинства человечества. «…Существуют определенные общие принципы одобрения и порицания, влияние которых внимательный глаз может проследить во всех действиях духа. Некоторые отдельные формы или качества, проистекающие из первоначальной внутренней структуры, рассчитаны на то, чтобы нравиться, другие, наоборот, на то, чтобы вызывать недовольство; и если они не производят эффекта в том или ином отдельном случае, это объясняется явным изъяном или несовершенством воспринимающего органа… принципы вкуса всеобщи и почти, если и не вполне, тождественны у всех людей» (19, т. 2, стр. 728, 736). Юм не соглашается с крайним релятивизмом во вкусах и связывает далее «хороший вкус» с глубоким пониманием вещей, со свободой от невежественных предрассудков, с чувством соразмерности и с особенностями жизни в данной стране. Общий природный «эталон», или «норма (standard)», вкуса может быть воспитан, если правильно и без иллюзий понять человеческую природу.
Перед нами в общем просветительский ход мысли. Правда, Юм трактует человека все же не совсем так, как Монтескьё, Гельвеций и Эддисон. Он подчеркивает то, что сближает людей с животными, и он растворяет мысли в эмоциях, суждения — в склонностях, эстетические оценки — во вкусах. Как и его французские компаньоны и оппоненты, он начинает искать мерило единых вкусов в общих и более или менее одинаковых для всех людей установках на то, что приносит пользу. Прекрасное сближается с тем, что переживается как полезное. Появляется утилитаристский мотив: «…удобство дома, плодородие поля, сила лошади, вместительность, безопасность и быстроходность парусного судна — все эти качества составляют главную красу перечисленных объектов» (19, т. 1, стр. 739).
Происходит не только ориентация прекрасного на полезное, но и сближение полезного и прекрасного, что позволяет Юму отойти от плоского утилитаризма: ориентация пользы не на узкоиндивидуальные выгоды, а на нечто более общее и «прекрасное» приобретает отвлеченный характер, после чего прекрасное становится выражением целесообразного вообще. Великолепный конь, например, представляется прекрасным и тем, кто не имеет ничего общего с бегами, хотя он целесообразно устроен для своих, а вовсе не для наших нужд. Но если так, то уже не только у Хатчесона, но и у Юма обнаруживаются тенденции, ведущие к будущей Кантовой «целесообразности без определенной цели». Не более как намечаются. Ведь Юм не расстается до конца с эмпирически конкретной манерой рассуждения, которую Кант стал отвергать самым решительным образом.
Юм удаляется от узкого утилитаризма в эстетике еще более благодаря использованию им принципа абстрактного альтруизма. В своем эстетическом учении он применяет уже хорошо известную нам «симпатию», которую он мыслит то как нечто совершенно самостоятельное, то как естественное продолжение и развитие эгоизма. О тенденции соединения альтруизма и эгоизма воедино говорит сам факт слияния эстетической и моральной целесообразности у Юма: то, что полезно всем людям, то «нравится» и им и мне.
После этого у Юма происходит оборачивание понятий: то, что «нравится» и вызывает удовольствие хотя бы вследствие смутного осознания какой-то его целесообразности, становится для нашего вкуса, считает он, как бы изначально прекрасным. Юм достигает известной широты и гибкости точки зрения, но тем самым и утрачивает ее определенность: у него испаряется специфичность собственно эстетического переживания, особенность и неповторимость которого невыводима ни из общих биологических предпосылок, ни из универсальной целесообразности или «полезности вообще». Юм пишет, что эстетические чувство представляет собой особую «холодную», или «спокойную» (а значит отчасти скорректированную разумом!), страсть, связанную с тонкими переживаниями и размышлениями и особым чувством гордости; но это определение слишком расплывчато. Тем более остаются теоретически неосвоенными вариации художественных вкусов и загадочные закономерности преобразования стилей и «моды». Известные нам до сих пор положения эстетики Юма недостаточно четки и оставляют возможность приспособления их к различным конвенциональным построениям. Недаром в одной из новейших буржуазных диссертаций об эстетике Юма мы читаем: «Как бы то ни было, Юмов анализ совместим с распространенными течениями в семантической эстетике» (62, стр. 84–85).
Шотландский мыслитель предпринимает попытку уточнения своей позиции, исходя из того, что ассоциативные механизмы в области эмоций действуют по-своему закономерно. Приложение этих закономерностей к эстетике позволило ему вмонтировать в ассоцианистскую комбинаторику свои собственные художественные вкусы и предпочтения. Тонкие наблюдения и верные соображения Юма привели его к тому, что он несколько отступил от первоначальной агностической платформы и в некоторых пунктах приблизился даже к реалистической эстетике.
Предпочтения Юма во многом соответствовали тому значительному, что смог принести в драматическое искусство классицизм. Он перетолковал, однако, традиционные для эстетики классицизма принципы единства времени, пространства и действия и другие в духе ассоцианизма и усмотрел в них проявления ассоциативной связи по временной последовательности, пространственной смежности и причинно-следственной зависимости. В изданиях эссе Юма, выходивших в свет в период с 1748 по 1770 г., в конце III главы его «Исследования о человеческом познании» имелось на этот счет соответствующее пространное примечание. Но многого из рациональных моментов эстетики классицизма Юм заимствовать не мог. То, что было возможно для материалиста Дидро, который не раз, беседуя с Юмом в салоне Гольбаха, высказывал уверенность в широких перспективах разума, а значит, и в желательности рационально упорядоченных эстетических правил и норм, было невозможно для агностика Юма, снижавшего претензии разума и в принципе «разводившего» разум и вкус, познание и искусство в разные стороны.
Но это «разведение» до упразднения эстетики у Юма не дошло не только потому, что он симпатизировал классицизму, но и потому, что в его художественных пристрастиях и антипатиях наметился поворот к критериям, свойственным реализму. Этот поворот ставил вопрос о совсем иных теоретических горизонтах, чем те, которых достиг Юм. Успешнее и дальше путь к этим новым горизонтам прошел Дидро [13].