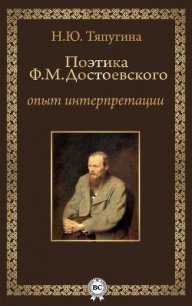Миросозерцание Достоевского - Бердяев Николай Александрович (читать полную версию книги .txt) 📗
Достоевский исследует природу революционного социализма и его неотвратимые последствия в явлении шигалевщины. Тут торжествует то же начало, которое потом развивает Великий Инквизитор, но без романтической грусти последнего, без своеобразного величия его образа. Если в католичестве и раскрываются те же начала, что и в социализме, то в неизмеримо высшей форме, эстетически наиболее привлекательной. В революционной шигалевщине раскрывается плоское начало, бесконечная плоскость. Петр Верховенский так формулирует Ставрогину сущность шигалевщины: «Горы сровнять – хорошая мысль, не смешная. Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию... Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание; мы пустим пьянство, сплетни, доносы; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство... Необходимо лишь необходимое – вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое». «Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны... Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!» Но это всеобщее принудительное уравнение, это торжество смертоносного закона энтропии (нарастания и равномерного распределения тепла во вселенной), перенесенного в социальную сферу, не означает торжества демократии. Никаких демократических свобод не будет. Демократия никогда не торжествовала в революциях. На почве этого всеобщего принудительного уравнения и обезличивания править будет тираническое меньшинство... «Выходя из безграничной свободы, – говорит Шигалев, – я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавляю, однако же, что кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого». Тут чувствуется фанатическая одержимость ложной идеей, которая ведет к существенному перерождению человеческой личности, к утере человеческого облика. Достоевский исследует, как безбрежная социальная мечтательность русских революционеров, русских мальчиков ведет к истреблению бытия со всеми его богатствами, доводит до пределов небытия. Это – очень у него глубоко обосновано. Социальная мечтательность – совсем не невинная вещь. Ей необходимо противопоставить трезвость, суровую ответственность. Эта революционная мечтательность есть болезнь русской души. Достоевский вскрыл ее и поставил ей диагноз и прогноз. Те, которые в своем человеческом своеволии и человеческом самоутверждении претендовали жалеть и любить человека более, чем его жалеет и любит Бог, которые отвергли Божий мир, возвратили билет свой Богу и хотели сами создать лучший мир, без страданий и зла, с роковой неизбежностью приходят к царству шигалевщины. Только в этом направлении могут они исправить дело Божье. Старец Зосима говорит: «Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом. Если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле». Изумительные по своей пророческой силе слова.
Достоевский открыл, что бесчестие и сентиментальность – основы русского революционного социализма. «Социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности». Но сентиментальность есть ложная чувствительность и ложное сострадание. И она нередко кончается жестокостью. Петр Верховенский говорит Ставрогину: «В сущности наше учение есть отрицание чести, и откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собою увлечь можно». Ставрогин отвечает ему: «Право на бесчестие – да это все к нам прибегут, ни одного там не останется!» П. Верховенский открывает также значение для дела революции Федьки Каторжника и «чистых мошенников». «Ну, эти, пожалуй, хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется». Размышляя далее о факторах революции, П. Верховенский говорит: «Самая главная сила – цемент, все связывающий, это стыд собственного мнения. Вот это так сила. И кто это работал, кто этот „миленький“ трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За стыд почитают». Эти психические факторы революции говорят о том, что в самых ее первоисточниках и первоосновах отрицается человеческая личность, ее качественность, ее ответственность, ее безусловное значение. Революционная мораль не знает личности как основы всех нравственных оценок и суждений. Это – безличная мораль. Она отрицает нравственное значение личности, нравственную ценность качеств личности, отрицает нравственную автономию. Она допускает обращение со всякой человеческой личностью как с простым средством, простым материалом, допускает применение каких угодно средств для торжества дела революции. Поэтому революционная мораль есть отрицание морали. Революция – аморальна по своей природе, она становится по ту сторону добра и зла. И слишком походит на нее внешняя контрреволюция. Во имя достоинства человеческой личности и ее нравственной ценности Достоевский восстает против революции и революционной морали. В революционной стихии личность никогда не бывает нравственно активной, никогда не бывает нравственно-вменяемой. Революция есть одержимость, беснование. Эта одержимость, это беснование поражает личность, парализует ее свободу, ее нравственную ответственность, ведет к утере личности, к подчинению ее безличной и нечеловеческой стихии. Деятели революции сами не знают, какие духи ими владеют. Их активность кажущаяся, они, в сущности, пассивны, дух их во власти бесов, которых они допустили внутрь себя. Эту мысль о пассивном характере деятелей революции, об их медиумичности раскрыл по поводу Французской революции Жозеф де Местр в своей гениальной книге «Соnsidеrаtiоns sur lа Frаnсе». В революции теряется человеческий образ. Человек лишен своей свободы, человек – раб стихийных духов. Человек бунтует, но он не автономен. Он подвластен чуждому господину, человеческому и безличному. В этом тайна революций. Этим объясняется их бесчеловечие. Человек, который владел бы своей духовной свободой, своей индивидуально-качественной творческой силой, не мог бы находиться во власти революционной стихии. Отсюда – бесчестье, отсутствие собственного мнения, деспотизм одних и рабство других. По характеру своего миросозерцания Достоевский противопоставляет революции личное начало, качественность и безусловную ценность личности. Он изобличает антихристову ложь безликого и бесчеловеческого коллективизма, лжесоборность религии социализма.
Но в революции торжествует не только шигалевщина, но и смердяковщина. Иван Карамазов и Смердяков – два явления русского нигилизма, две формы русского бунта, две стороны одной и той же сущности. Иван Карамазов – возвышенное, философское явление нигилистического бунта; Смердяков – низкое, лакейское его явление. Иван Карамазов на вершинах умственной жизни делает то же, что Смердяков делает в низинах жизни. Смердяков будет осуществлять атеистическую диалектику Ивана Карамазова. Смердяков – внутренняя кара Ивана. Во всякой массе человеческой, в массе народной больше Смердяковых, чем Иванов. И в революциях, как движениях массовых, количественных, более Смердяковых, чем Иванов. Это Смердяков делает на практике вывод, что все дозволено. Иван совершает грех в духе, в мысли, Смердяков совершает его на деле, воплотив идею Ивана в жизнь. Иван совершает отцеубийство в мысли, Смердяков совершает отцеубийство физически, на самом деле. Атеистическая революция неизбежно совершает отцеубийство, она отрицает отчество, порывает связь сына с отцом. И она оправдывает это преступление тем, что отец был грешный и дурной человек. Такое убийственное отношение сына к отцу есть смердяковщина. Совершив на деле то, что Иван совершил в мыслях, что он в духе разрешил, Смердяков спрашивает Ивана: «Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встревожены сами-то-с?» Смердяковы революции, осуществив на деле принцип Ивана «все дозволено», имеют основание спросить Иванов революции: «Теперь-то почему так встревожены сами-то-с?» Смердяков возненавидел Ивана, обучившего его атеизму и нигилизму. Во взаимоотношениях Смердякова и Ивана как бы символизируется отношение между «народом» и «интеллигенцией» в революции. Это раскрылось в трагедии русской революции, и подтвердилась глубина прозрения Достоевского. Смердяковское начало – низшая сторона Ивана – должно побеждать в революциях. Подымется лакей Смердяков и на деле заявит, что «все дозволено». В час смертельной опасности для нашей родины он скажет: «Я всю Россию ненавижу». Революция отрицает не только личность, но также и связь с прошлым, с отцами, она исповедует религию убийства, а не воскресения. Убийство Шатова – закономерный результат революции. И потому Достоевский – противник революции.