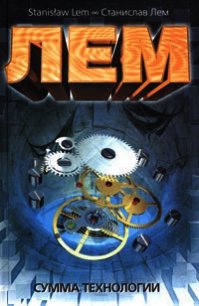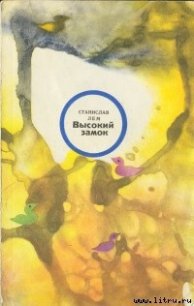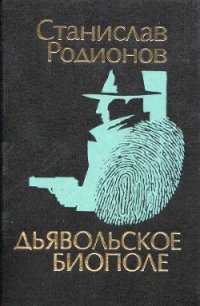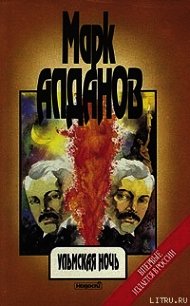Философия случая - Лем Станислав (лучшие книги без регистрации txt) 📗
В «тривиальном» газе – например, в воздухе – можно обнаружить пренебрежимо малую примесь шестифтористого урана, причем эти молекулы в их урановой части (235U) время от времени спонтанно распадаются, потому что 235U, как и все ураниды, является нестабильным элементом. Однако единичные акты распада в целом не репрезентативны для газа. Его будущие состояния практически не зависят от упомянутой пренебрежимо малой примеси.
Подобным же образом и в обществе можно обнаружить постоянную примесь людей со «взрывчатым» характером. Однако из этого нельзя делать вывод, что они репрезентативны для общества в тех случаях, когда оно переходит из одного «социостатичного» состояния в другое – например, от парламентской демократии к фашистской диктатуре. Фашизация – это не результат превращения значительной части населения в психопатов. Кроме того, то, что репрезентативно в своей сингулярности – в плоскости одного системного состояния, – может перестать быть репрезентативным в другом состоянии. Информация, в первом случае «существенная», во втором окажется чисто маргинальной.
Каждое литературное произведение можно интерпретировать двояко: (1) можно считать, что в нем содержится не описание какого-то реального положения вещей, но только селективная информация, иными словами, выбранная соотносительно с распределением артикуляционных вероятностей. В этом случае литературное произведение изображает (в отношении к правдоподобию) нечто «удивительное», «редкое», «невозможное» или, наоборот, «усредненное», «частое». «Типичность» или «оригинальность» в таком случае будут чисто селективной природы, а статистика выбора – относящейся не к реальным событиям, но только к языковым. Речь идет о вероятности данной артикуляции по отношению ко всему комплексу этих событий, причем не затрагиваются критерии истины и ложности, да и вообще «познавательной адекватности». Если кто-нибудь начнет писать роман, мы при таком подходе можем – опираясь на статистику литературных произведений, например, за последние пятьдесят лет – предвидеть, что вероятнее всего этот человек напишет более или менее банальную книгу, то есть что у него будет недоставать маловероятной информации.
Но литературное произведение можно интерпретировать и (2) как «изображение» ситуаций, от которых неотъемлемо правдоподобие по отношению к реальным событиям. Тогда возникает вопрос о критериях познавательного характера произведения: изображает ли оно нам то, что усреднено и репрезентативно с точки зрения предвидения будущих событий; или, может быть, с точки зрения ретроспекции или же внимания к локальным и редким состояниям; наконец, репрезентативными могут быть содержащиеся в произведении факты или набор фактов и т.д. В свою очередь, эстетическая оценка информационного содержания в случаях как (1), так и (2) соотносится с «комплексом эстетических ладов», данным в культуре и прошедшим через отбор.
Большего утверждать мы не можем, потому что селективная информация предполагает статистическую базу. Опираясь на эту базу и заданные ею вероятностные распределения, мы можем формулировать оценки. При этом подходе онтологические и эпистемологические проблемы (отношение произведения к бытию, его познавательное содержание) не возникают. Вводить их – то же, что смешивать понятие физической энтропии (эмпирическое) с понятием семантической информации (логическим). Правда, c таким смешением иногда приходится сталкиваться. Даже по мнению некоторых философов, генетическая выводимость логики из эмпирических явлений равносильна открытию тождественности эмпирического с логическим (как если бы из того несомненного факта, что отдаленным предком человека была панцирная рыба, следовало бы, что человек и панцирная рыба – одно и то же).
Информация, которую мы назвали структуральной и которая нераздельно связана с семантической, может быть оценена в категориях истинного и ложного. Опять-таки, иногда даже в работах в целом компетентных говорится о том, что информация может быть принята в своего рода «информационный вакуум». На самом же деле семантическая информация предполагает получателя, у которого уже есть определенное знание как вероятностное распределение или комплекс таких распределений, данных в реальном опыте. Говоря короче: чтобы где-то могло осуществиться приращение семантической информации, определенное количество содержательной информации уже заранее должно на этом «месте» находиться.
Нам могут возразить, что ведь и селективная информация тоже не появляется на пустом месте. И если даже ее распределения выдаются чисто языковой статистикой, то все же и язык в смысле la langue [15] формируется под «давлением» действительности, что мы уже и подчеркивали: таким образом, и в этой статистике так или иначе находит свое отражение та же действительность.
Безусловно, здесь есть смысл. Однако уж такое удивительное животное человек, что широко использует язык тем способом, который физикалистски понятая эмпирия запрещает. Поэтому в языке имеется множество «пустых» названий вроде имен демонов и эльфов. Причина такого странного поведения языка нам неизвестна.
На правах гипотезы сформулируем такое суждение: это непонятное положение вещей коренится в самом языке. В это суждение можно вкладывать вполне тривиальный смысл. Людям по самой их природе (биологической) свойственно любопытство, желание исследовать, что такое происходит. Ведь кто-то когда-то обязательно пробовал даже саранчу, белену, яйца, тухнувшие в земле много лет, на вкус – чтобы выяснилось, что съедобно, а что несъедобно. Языком можно пользоваться так же, как ногой или рукой. Известно, что люди всегда уделяли много внимания своим органам. Научились же мы подпиливать зубы, деформировать стопы ног, татуировать кожу, почему бы нам было не предпринять разных опытов и с языком? Если можно думать о смерти, видя умирающего, то почему нельзя о ней думать, видя врага, который здоров? Если мы можем говорить о том, что произошло, и о том, что не произошло, то почему нельзя говорить о том, что вообще произойти не может? Если можно с помощью языка представлять себе события, когда они уже произошли, то почему нельзя вызвать их наступления, говоря о них, пока они еще не произошли? Тут нет никаких запретов, и действительно, все это люди делали и продолжают делать. Магия в ходу и по сей день. Если мы очень на кого-нибудь злы и клянем его в его отсутствие, то производим магическую процедуру, хотя бы при этом вполне отдавали себе отчет, что это просто «выпускание паров». Если от одного слова командира падает на землю множество солдат, почему не может быть таких слов, от произнесения которых упадут леса и горы? Я не утверждаю как общую истину, что язык – это автономный генератор «метафизики», но только что он мог бы быть таковым, потому что в его рамках можно предпринимать самые различные опыты и находить артикуляции, производящие впечатление – подчас очень сильное – проникновения в сущность, «в самую душу» тех или иных предметов. Вопросы о бытийном «статусе» литературных произведений можно трансцендентализовать; в этом случае, для того чтобы получить ответ, требуются убедительные аргументы, а также приверженность определенной систематической философской доктрине. Но если мы перейдем на почву эмпирии и тем самым нейтрализуем эти вопросы, они оказываются разрешимыми, поскольку от решения читателя зависит, будет ли он трактовать поступающую информацию
– как селективную и «заканчивающуюся в языке», то есть «слепую» к внеязыковому миру, и как такую, для которой язык – последняя инстанция; или же
– как структуральную и отражающую внеязыковой мир; как такую, которая может быть с этим миром сопоставлена.
Неустойчивость наших решений в данном плане возникает из того, что оба вида информации, если одинаковым образом воплотить их в лексико-синтаксическую форму этнического языка, выглядят настолько подобными друг другу, как если бы они были тождественными.
Возьмем два объекта: мешочек из шкуры старой ящерицы, наполненный зубами гремучей змеи и щепоткой пепла, и священный амулет, который спасает в житейских трудностях и устрашает врагов. Люди обычно не отдают себе отчета, что между этими вещами нет никаких различий, кроме тех, которыми они (люди) сами их наделяют. Как раз эти различия нелегко обнаружить, тем более что амулет можно снять, но невозможно «снять» язык. И вот мы уже почти готовы согласиться с тем, что дела обстоят таким образом, но тут в нас пробуждается сомнение: как может быть, чтобы у слов наподобие «ничто» не было десигнатов, если мы эти слова «вполне понимаем»? А еще лучше мы понимаем, что такое «одновременность событий» – и только физика раскрыла перед нами, как велика разница между обиходным значением этого термина и тем, которое приемлемо в плане эмпирии. Как известно, всю математику можно было бы изложить словами обычного языка и писать, например: «квадратный корень из числа „пи“, умноженный на натуральный логарифм двенадцати и деленный на функционал...» и т.д. Но никто такого никогда не делал. Почему? Может быть, только потому, что оперировать математическими символами – короче и соответственно эффективнее? Действительно, короче, но зачем, собственно, изобрели математические символы? Не из-за желания ли (помимо других причин) более четко отделить математику от естественного языка? Ибо математика – это селективная информация, причем такая, которую даже по ошибке невозможно подменить «структуральной».