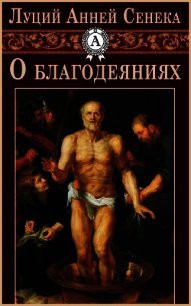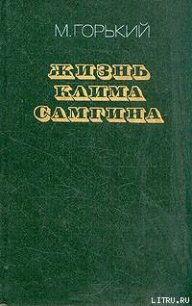Нравственные письма к Луцилию - Сенека Луций Анней (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации TXT) 📗
(5) Кроме того, в такой речи немало пустого и суетного, шуму в ней больше, чем силы. Нужно умерить мои страхи, унять раздражение, рассеять заблуждения, нужно обуздать расточительность, искоренить алчность. Разве удастся это сделать на лету? Какой врач лечит больных мимоходом? Да что тут! Даже и удовольствия не доставляет этот треск без разбору сыплющихся слов! (6) Точно так же, как довольно однажды познакомиться с тем, что казалось невероятным, больше чем достаточно один раз услыхать этих умельцев. Чему захочешь у них учиться, в чем подражать им? Какое мненье составишь о душе того, чья беспорядочная речь несется без удержу? (7) Бегущие под уклон останавливаются не там, где наметили, вес тела увлекает их с разбегу дальше, чем они хотели, — и так же быстрая речь себе не подвластна и не пристала философии, которая должна не бросать слова на ветер, а вкладывать их в душу и потому идти шаг за шагом. — (8) «Что ж, ей никогда и голоса не возвысить?» — Почему же? Но пусть сохраняет достоинство, с которым эта неистовая, чрезмерная сила несовместима. Пусть силы ее будут велики, но сдержанны, пусть речь ее будет неиссякаемой струёй, а не дождевым потоком. По-моему, едва ли и оратору позволительна такая неудержимая, не ведающая законов скорость речи. Как уследить за нею судье, подчас неопытному и несведущему? Пусть оратор, даже когда его увлекает или желание блеснуть, или не властная над собою[2] страсть, говорит не быстрей и не больше, чем могут выдержать уши.
(9) Ты правильно сделаешь, если не будешь обращать внимания на тех, кому важно, сколько сказано, а не как сказано, и предпочтешь, если понадобится, говорить, как Публий Виниций. — «Как это?» — На вопрос, как говорил Виниций, Азеллий отвечал: «В растяжку». А Гемин Варий говорил: «Почему вы называете его красноречивым, не понимаю: он и трех слов не может связать» [3]. Почему же ты не желаешь говорить, как Виниций? (10) Пусть и тебя прервет какой-нибудь невежа, как Виниция, которому крикнули из-за того, что он отрывал одно слово от другого, будто не говорил, а диктовал: «Говори! Скажешь ты когда-нибудь или нет?» Ведь, я думаю, мчаться, как Квинт Гатерий [4], знаменитейший в свое время оратор, не станет ни один человек в здравом уме. Гатерий не сомневался, не делал пауз, а раз начав, несся до конца. (11) Есть вещи, которые, по-моему, одному народу подходят больше, другому меньше. У греков такая вольность была бы терпима, а мы и на письме привыкли разделять слова точками. Даже наш Цицерон, с которым так высоко поднялось римское красноречие, не был рысаком. Римская речь чаще озирается, задумывается и позволяет о себе подумать. (12) Фабиан, человек, отличавшийся и безупречной жизнью, и знаниями, и красноречием (которому принадлежит последнее место), когда вел рассуждения, говорил легко, но не скоро, так что речь его, можно сказать, отличалась плавностью, а не быстротой.
Я не возражаю, если мудрый обладает и этим достоинством, но не требую, чтобы он говорил без запинки: по мне важнее, чтобы речь была хорошо произнесена, пусть и не так плавно. (13) Я тем более хочу отпугнуть тебя от этой напасти; ведь если она пристанет к тебе, значит, ты наверняка потерял стыд, разучился краснеть и перестал себя самого слушать. Ибо этот поток, за которым даже ты не следишь, несет много такого, что тебе самому потом захочется взять назад. Но, повторяю, к тебе эта напасть не пристанет, если ты не потеряешь совесть. Кроме того, нужно ежедневно упражняться и отдавать свое усердие сначала предметам, а потом словам. (14) А им тоже нельзя давать воли, пусть даже они придут сами и потекут без всякого твоего труда: мудрецу приличествует не только скромная осанка, но и сжатая, сдержанная речь. А итог всех итогов таков: приказываю тебе говорить медленно! Будь здоров.
Письмо XLI
Сенека приветствует Луцилия!
(1) Ты пишешь, что по-прежнему упорно стремишься к совершенству духа; дело это прекрасное и для тебя спасительное, ибо глупо молить о том, чего можно добиться от себя самого. Незачем ни простирать руки к небесам, ни просить прислужника в храме, чтобы он допустил нас к самому уху кумира, как будто тот лучше услышит нас: ведь бог близ тебя, с тобою, в тебе! (2) Говорю тебе, Луцилий, что в нас заключен некий божественный дух, наблюдатель и страж всего хорошего и дурного, — и как мы с ним обращаемся, так и он с нами. Всякий истинный человек добра причастен божеству. Кто без помощи бога может возвыситься над фортуной? Он дает нам благородные и правдивые советы. В каждом человеке добра
... обитает один — но не ведаем кто — из бессмертных[1]
(3) Если тебе встретится роща, где то и дело попадаются старые деревья выше обычного, где не видно неба из-за гущины нависающих друг над другом ветвей, то и высота стволов, и уединенность места, и удивительная под открытым небом тень, густая и без просветов, — все внушит тебе веру в присутствие божества. Или если пещера в глубоко изъеденных скалах несет на своих сводах гору, если выкопана она не руками, а стала столь просторной от естественных причин, то душа у тебя всколыхнется предчувствием святыни. Мы чтим истоки больших рек, ставим алтари там, где из-под земли вдруг выбиваются обильные потоки, поклоняемся горячим источникам, многие озера для нас священны из-за их темных вод или безмерной глубины. (4) А если ты увидишь человека, не устрашенного опасностями, чуждого страстям, счастливого среди бед, спокойного среди бурь, глядящего на людей сверху вниз, а на богов — как на равных, разве не почувствуешь ты преклонения перед ним? Разве не скажешь: «Тут есть нечто слишком великое и возвышенное, чтобы можно было поверить, будто оно схоже с этим жалким телом — своим обиталищем. Сюда снизошла божественная сила». (5) Если высокая душа чужда волнений, пренебрегает всем, словно все для нее ничтожно, если ей смешны наши страхи и стремления, — значит, ею движет небесная власть. Ничто столь великое не может существовать без поддержки божества. И выходит, что большей своей частью эта душа принадлежит тому миру, откуда снизошла. Как солнечные лучи, хоть и касаются земли, пребывают там, откуда исходят, так и душа, великая и святая, хоть и послана сюда затем, чтобы мы могли ближе познать божественное, хоть и не чуждается нас, однако неотрывно связана со своей родиной: от нее она зависит, к ней направляет и взоры, и усилия, а в нашей жизни участвует как нечто лучшее.
(6) Что же это за душа? Та, что не блещет другими благами, кроме своих. Разве есть что глупее, чем хвалить человека за то, что ему не при надлежит? Есть ли что безумнее, чем восхищаться вещами, которые немедля могут перейти к другому? Лошадь не становится лучше, если узда у нее из золота. Одно дело — когда выпускают льва с позолоченной гривой, укротив его и утомив настолько, что он позволил себя украсить, другое дело когда он выходит неубранный и не сломленный духом. И уж, конечно, такой зверь, яростный в нападении, каким создала его природа, прекрасный в своей дикости и украшенный лишь тем, что на него нельзя смотреть без страха, намного превосходит другого, расслабленного и осыпанного блестками. (7) Никто не должен похваляться чужим. Мы хвалим лозу, если она отягощает побеги гроздьями, если гнет подпору к земле весом собственных плодов. Кто предпочтет ей лозу, на которой и ягоды, и листья из золота? Достоинство лозы — плодоносность; так и в человеке следует хвалить лишь то, что от него самого. У такого-то красивая челядь и прекрасный дом, он много сеет и много получает барыша: но все это — не от него самого, а вокруг него. (8) Хвали в нем то, что нельзя ни отнять, ни дать, что принадлежит самому человеку. Ты спросишь, что это? Душа, а в ней — совершенный разум. Ведь человек — разумное существо; значит, для него высшее благо — выполнить то, ради чего он рожден. (9) А что требует от него разум? Ничего трудного: только жить согласно своей природе. Трудно это лишь по причине всеобщего безумия мы все толкаем друг друга к пороку. Как можно вернуть к здравомыслию тех, кого не удерживает никто, а гонит вперед целая толпа? Будь здоров.