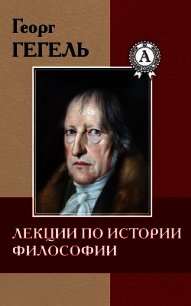Язык философии - Бибихин Владимир Вениаминович (читать бесплатно полные книги .TXT) 📗
Для вещей оно их высшая возможность. Они исполняются, узнавая себя в молнии, своей тайной и истинной сути. Молния исполнение вещей, потому что они хотят вторить ей, тянутся слиться с ней.
…И скорую молнию изъясняют
Деяния земные доныне,
Состязание неустанное, —
состязание между вещами за то, чтобы быть самым верным изъяснением (Erklärung) божественной молнии. В этих стихах у Гельдерлина (гимн «Патмос» 206–207) мы неожиданно слышим как будто бы ответ на вопрос о том, кто ведет обмен живого огня на вещи и вещей на огонь, или по крайней мере что‑то не постороннее такому ответу. Обмен неким образом проходит через нас, людей, в нашем историческом существовании — не в том смысле, что, подглядев за образом действий вечного огня, мы можем и себе тоже погреть руки на его операциях, что‑то урвав от его энергий в нашу пользу, а совсем в другом смысле: оказавшись свидетелями действия огня, мы по непонятной или понятной причине не остаемся простыми наблюдателями, не всегда делаемся и игрушками огня, безвольно терпящими его превращения в тысячелетнем ожидании его воспламенений и угасаний, а принимаем вызов здесь и сейчас принадлежать тому огню, — настолько, что всё совершающееся на земле оказывается изъяснением, истолкованием молнии. Толкователь на традиционном языке мудрости — меняла, и бог торговли Гермес — бог интерпретаторов. Иисус опрокидывает столы меновщиков в храме потому, что когда явлена сама истина, она знает себе меру и вес и не нуждается в оценке и взвешивании человеческой меркой. Мы причастны обмену вещей на золото огня и золота огня на вещи не так, что в качестве наблюдателей имеем об этом процессе какие‑то свои соображения, и не так, что им управляем, а так, что весомым историческим действием, поступком «изъясняем» молнию. Erklären у Гёльдерлина значит не просто истолковывать, но и объявлять, как объявляют намерение, давая тем самым объявленному неким образом уже присутствовать, и проявлять.
Гераклит, наверное, не просто описывает нам нагоняющие тоску космические процессы, как кажется очередному современному исследователю, не просто в позе отошедшего от дел мудреца наблюдает «злой мировой хаос, сам себя порождающий и сам себя поглощающий»; не просто изображает — у него не было для того достаточной доли нашего цинизма и отчаяния по поводу человеческого ничтожества в смеси с садизмом — вечную слепоту затуханий и загораний как якобы «только милые и невинные забавы ребенка, не имеющего представления о том, что такое хаос, зло и смерть». Неверно, что только у нас, теперешних людей, есть представление об идеальной цели, а те, древние, дожидаясь, пока придем наконец мы, сидели в черной меланхолии под вечно голубым небом и никак не могли выбраться из духовного тупика, никак не могли справиться с настроением отчаянной бессмыслицы, выйти из мрачной задумчивости.
Если нам удастся поверить (вспомним, что, по Гераклиту, высокое ускользает от нас не по недостатку нашего знания о нем, а от своей невероятности), что философ не просто твердит нам еще с древнего Вавилона известные вещи о космических круговращениях и о превращении элементов, то обозначится неожиданная вещь. Логос не космический закон превращений, «объясняющий природные процессы». Наоборот, логос истолковывается всем сущим, природой, вещами, человеком и его «деяниями». Пытаясь «развернуть» смыслы, «содержащиеся» в логосе, который имеет их все вдруг как мгновенная молния, мы надеемся приблизиться к нему, но еще раньше и надежнее до всякого слова и мысли мы всегда уже толковали и продолжаем толковать событие огненного логоса всем своим существом, деланием и неделанием.
Что познание не приближает нас к первой истине, а безвозвратно разменивает ее простоту на разрастающуюся систему сведений, которые потом уже никогда не вернуть к целости, не надо даже доказывать. Это мы ощущаем. Но как не надо делегировать наше отчаяние античности, так ощущение обреченности от расползшейся паутины познаний, заслонившей от нас простую суть вещей, нельзя проецировать на современную науку. Отчаяние принадлежит обыденности и имеет непроясненный источник. О современной науке мы пока еще очень мало знаем.
Европейская наука не собрание сведений, где непостижимая истина разменена на мелкую монету. Наша наука держится чудом повторяющейся в каждом новом поколении исследователей, негарантированной способности видеть в каждом факте не ответ, а вопрос. Когда эта способность иссякнет, наука превратится в систему суеверий. Современная наука таким образом существует из настоящего и всегда так существовала; ее вековая постройка стоит на фундаменте новейшего достижения. Научный ум — вещь редкая и чудом продолжающая существовать — по–настоящему вовсе не занят мировоззрением или картиной мира. Это занятие громадного околонаучного пригорода и главное публицистики, продукция которой во много раз превышает научную. Настоящая наука занята не сведением концов с концами, а проблемами. Она начинается с нежелания принимать готовые ответы и живет готовностью взглянуть на любой факт как на вопрос. Она заинтересована в сохранении остроты вопросов, их защите от гнетущей потребности ответить на них или снять их. Наука оберегает остроту проблемы от спешных решений. Можно сказать, что она есть длящееся упорное противодействие навязывающей себя схеме и сохранение непонятной странности факта. Так биология сохраняет себя как наука благодаря тому, что оставляет происхождение видов (и человека) под вопросом несмотря на огромное давление общества, которое в совершенно непропорциональном сравнительно с числом собственно ученых большинстве считает вопрос якобы уже решенным в ту или другую сторону. Мировоззренческий интерес теснит науку со всех сторон, в качестве мифа он тверже нее стоит на ногах. Цельной картины мира требует всё, закругленный смысл напирает как толпа в виде множества социальных и других заказов. Только подлинная наука знает, что в настоящем ясность начал и концов обертывается своим отсутствием. Научное открытие — не снятие вопросов, а усовершенствование их архитектуры, отпадение многих старых, но появление еще большего числа новых, с большей тонкостью, с высшей остротой. С новым открытием здание науки становится чудеснее, необозримее, его идеологический смысл совсем неясным, в целом оно — более проблематичным. То, что некоторые (в сущности немногие) части постройки могут применяться для практических целей, в проблематичности науки ничего не меняет.
Она должна знать, что «логос», понятый в смысле мирового закона, устроен так, что не расшифровывается и при приближении к нему обнаруживает свою непостижимость. Всякое искание — шаг к новому. Маячащий смысл при приближении к нему отдаляется, но, пока идет искание, присутствует как ориентир. Смысл присутствует как отсутствующий и искомый. Способ присутствия «логоса» — ускользание.
Философия невозможна в наше время вне вопроса о технике не потому, что техника важное дело, а потому, что нигде с такой осязаемостью, как в европейской науке, не прояснилась неуловимость «общего смысла» мира и нигде, как в архитектуре вопросов современной науки, не очищено так много места для отсутствующего логоса.
Наука раздвигает пространство для всеохватывающего логоса, но в силу настойчивости и четкости своих вопросов пока остается к счастью наукой и, чтобы такой остаться, оставляет это пространство незанятым. С точки зрения идеологии и мировоззрения здесь проявляется скандальная ограниченность науки. Однако занять пустующее в науке место истины бытия — дело не выше науки, а ниже ее. Наука не опускается до этого ради соблюдения своей чистоты. Именно здесь она совпадает с философией. Критерий чистоты в науке и философии один, хотя критерий строгости в философии выше. Гераклит соблюдает научную чистоту, когда называет грязью вылепливание богов, о которых мы не знаем, какие они на самом деле.
Обмен огня–золота на вещи происходит не так, что вещь редуцируется до своего отвлеченного смысла с получением вместо вещи знания о ней. Обмен будет справедлив, только если на всякой ступени ее смысл не скроет своего ускользающего характера и тем позволит увидеть саму вещь в ее несводимой странности. Чем яснее вещь обнаруживает свой неуловимый смысл, тем она остается самостоятельней в своей бессмысленности. Тогда при обмене на золото от вещи остается не логический шифр, а наоборот: устоявшая против редукции, представшая в своей отчуждающей странности сама же эта вещь, ставшая сплошным вопросом настолько, что мы ее не видим, как видели прежде, не знаем, как знали прежде, не знаем даже, вещь ли она. В ней сохраняется несомненным только чистое есть. Она обнаруживает свое золотое наполнение, сама оказывается огненным логосом.