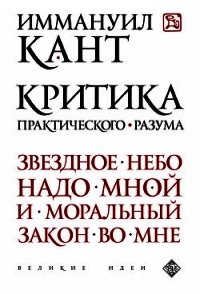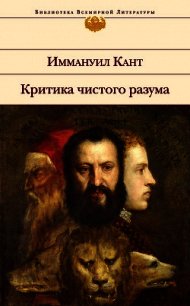Критика цинического разума - Слотердайк Петер (мир книг .txt) 📗
Из этнологии и по сей день исходят импульсы, вызывающие саморефлексию великих цивилизаций; так, за бросающимся сегодня в глаза чуть ли не культовым отношением к индейцам стоят размышления о природе и о том, какова должна быть максимальная величина обществ, намеренных разумно относиться к самим себе и к окружающей среде. А детская психология и сегодня дает ценные импульсы, побуждающие к рефлексии над определяющими поведение структурами в тех обществах, которые страдают от своей детскости и не могут с ней совладать.
Что сохранилось от руссоистской критики целиком и полностью, так это представление о необходимости разоблачения ложности представлений о злой «природе» – как социальных фикций. Такое разоблачение по-прежнему важно, чтобы противостоять рассуждениям о неполноценности «от природы», будто бы характерной для определенного интеллекта, для представителей некоторых рас, для лиц определенного пола или определенного сексуального поведения. Когда консерваторы и реакционеры ссылались на «природу», стремясь обосновывать неполноценность женщин, меньшую одаренность темнокожих рас, врожденную интеллигентность детей из высших слоев общества, а также неестественность склонности к гомосексуализму, они узурпировали натурализм, превратив его исключительно в свое достояние; задачей критики остается противодействие этому. В конечном итоге критика должна прийти, по меньшей мере, к тому представлению, что все, преподносимое нам как «природа», должно рассматриваться нейтрально и нетенденциозно, тогда как всякое вынесение оценок и любая тенденциозность должны, несомненно, пониматься как нечто, привносимое культурой, но не определяемое натурой. Даже если «благостная природа» Руссо и канула в вечность, он, по крайней мере, научил нас не делать «скверную природу» оправданием для социального угнетения.
Однако там, где заходит речь о «жертвах общества», опять-таки легко может дать знать о себе «момент рафинированной изощренности». В понятии «жертва общества» заключено рефлексивное противоречие, которое предрасполагает ко всякого рода злоупотреблениям. Уже Руссо продемонстрировал сомнительного толка изощренность, за которой наверняка скрывалась двойная мораль. В новой концепции воспитания он связал воедино природу и детство и в то же время отказался от своих детей, отправив их в сиротский приют; такие дела с незапамятных времен считаются противоречием между учением и жизнью его создателя. Руссо был мастером изощренной рефлексивности, которая умело отыскивала вину в Другом, а в себе обнаруживала одну лишь только чистоту намерений. Все его исповедальные признания написаны именно на этом, абсолютно белом листе абсолютной невинности. В такой позиции было нечто такое, чему не смогли и не захотели последовать другие радикальные просветители, и прежде всего Генрих Гейне – несмотря на то что они были весьма далеки от попыток очернить Руссо, которые предпринимались всеми антипросветителями. Уязвимое место теории, рассуждающей о «жертвах общества», – это опять-таки самоовеществление сознания, т. е превращение сознанием самого себя в некое подобие пассивной вещи; так создается новая наивно-изощренная, простодушно-рафинированная позиция. Впоследствии эта позиция может использоваться в зависимости от обстоятельств – как ловкий трюк, позволяющий облегчать себе жизнь; как техника шантажа; как косвенная агрессия. Психологии известен тип «вечной жертвы», которая использует такую позицию для замаскированной агрессии. Если смотреть более широко, то сюда же следует отнести и вечных неудачников, а также ипохондриков – как клинических, так и политических, – жалующихся на обстоятельства и рисующих их настолько ужасными, что стоит огромных усилий не убить себя или не эмигрировать. Среди левых в Германии – во многом под влиянием социологизированной схемы жертвы – сформировался распространенный тип «несогласных», которые считают низостью и пошлостью необходимость жить в этой стране, где нет лета и нет оппозиции. Никто был бы не вправе сказать, что разделяющие эту точку зрения не ведают, о чем говорят. Но их ошибка заключается в том, что они так и остаются в состоянии самоослепления. Ведь подобным обвинением они намертво привязывают себя к убожеству и увеличивают его – под прикрытием критических заявлений, которые не вызывают никаких подозрений в неискренности. Обладая софистическим упрямством в неприятии всего, агрессивно занимаясь самоовеществлением, превращением себя в вещь, иное «критическое» сознание отказывается становиться более здоровым, чем больное общественное целое.
Вторая возможность злоупотребить схемой жертвы была открыта социальными работниками и ангажированными помощниками – когда они, из самых лучших побуждений, попытались внушить бездомным, алкоголикам, заключенным, отбывающим наказание за уголовные преступления, юным маргиналам и т. д. представление о том, что они «жертвы общества», которые всего лишь упустили возможность надлежащим образом защитить себя. Зачастую, внушая подобное представление, эти люди наталкивались на чувствительный отпор, и им приходилось уяснить для себя, насколько много дискриминации заключается в их собственной «доброй воле». У людей, попавших в скверную жизненную ситуацию, существуют самолюбие и потребность в защите собственного достоинства; они-то и заставляют их оказывать энергичное сопротивление в ответ на требование самоовеществления, которое предъявляется им в ходе любой политической кампании помощи, когда используется описанная аргументация. Именно тот, кому приходится хуже всего в жизни, чувствует в себе искру самоутверждения; стоит ему только представить себя жертвой, помыслить себя как некое не-Я, как немедленно возникнет реальная угроза затухания этой искры. Достоинство «бедняг» заключается, помимо всего прочего, и в том, что только они одни и только сугубо добровольно вправе называть себя беднягами. Тот, кто пытается насильно вложить им в уста это слово, оскорбляет их, какими бы добрыми намерениями он ни руководствовался. К сущности освобождающей рефлексии принадлежит то, что к ней нельзя принудить. Она откликается только на косвенную помощь.
Учитывая все это, можно понять, как возможна жизнь в состоянии тотальной непросвещаемости – так, как ее описал Т. В. Адорно, говоря о несчастном сознании, в котором потерпевший поражение человек во второй раз наносит себе тот удар, который ранее ему уже нанесли обстоятельства, – наносит для того, чтобы обрести способность этот удар держать. Здесь происходит внутренняя рефлексия, которая с виду напоминает пародию на свободу. Внешне этот феномен выглядит как удовлетворенность, и если спросить человека, что он переживает, он, вероятно именно так и квалифицировал бы свое состояние. Вспоминая свою мать, Петер Хандке [50] нашел очень мягкую формулу, с которой печаль исполненного любви и беспомощного познания капитулирует перед действительностью: «Лишенное желаний несчастье». Никакое Просвещение больше не имеет ни шанса, ни права нарушить сон этого мира, если он выглядит именно так.
8. Критика видимости приватного
Итак, где же это Я, если оно – ни в теле, ни в душе?
Последняя великая атака критики, сражающейся с иллюзиями, направлена на положение Я – между природой и обществом. Проследив ход мысли, характерный для предшествующих видов критик, мы теперь знаем, что познание имеет дело не с человеческой природой как таковой, а с природой как концепцией, с природой как чем-то искусственно сфабрикованным, с неприродной, неестественной природой.
В «данном от природы» всегда заложено нечто, «добавленное к этому» человеком. Это открытие становится итогом «работы» рефлексии. Современность утверждает себя в наших головах в образе разрушающих наивность, контринтуитивных познаний, которые странным и специфическим образом вынуждают наш интеллект развиваться, перерастая нас.
Апелляция к «природе» всегда должна что-то означать в идеологическом плане, поскольку она продуцирует искусственную наивность. Она скрывает то, что было привнесено человеком, и предназначается для того, чтобы уверить нас, будто вещи «от природы», по исконному происхождению своему даны в том «порядке», в каком их изображают наши представления, – а ведь в них всегда неявно присутствуют наши интересы. Всякий натурализм неявно представляет собой первый шаг к созданию идеологии, ратующей за «наведение порядка». Каждый натурализм начинается как невольная наивность и заканчивается как наивность добровольная. Вначале мы не можем ничего поделать с тем, что считаем «порядок вещей» объективным. Первый взгляд устремляется на вещи, а не на «очки», через которые мы их видим. Однако в результате работы, проделанной Просвещением, эта первоначальная невинность оказывается безвозвратно утраченной. Просвещение приводит к расставанию с наивностью; оно требует порвать с объективизмом, обретя самопознание. Оно способствует пробуждению, после которого уже невозможно вернуться в состояние спячки; оно, образно выражаясь, заставляет нас перевести взгляд на устройство очков, то есть собственного рационального аппарата. Если сознание того, что существуют очки, однажды пробудилось в культуре, старая наивность утрачивает свой шарм, переходит к обороне и превращается в узколобость, которая упорствует и желает оставаться таковой. Мифология греков еще волшебно-восхитительна; мифология фашизма – всего лишь бесстыдно предлагаемый залежалый товар. Первые мифы представляли собой шаг к постижению и толкованию мира, но поддельная наивность – это попытка рафинированного оглупления; к нему, как к главной своей методе, прибегают в стремлении к самоинтеграции те общественные порядки, которые намерены ускорить свое развитие [51]. Тем самым мы предельно кратко сказали о роли мифологии в современную эпоху, но этого, возможно, вполне достаточно на данный момент. Утонченное самооглупление проявляется во всех современных натурализмах: расизме, сексизме, фашизме, вульгарном биологизме и – в эгоизме.