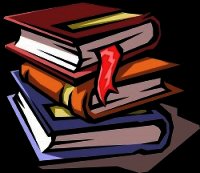Конец стиля (сборник) - Парамонов Борис Михайлович (библиотека электронных книг txt) 📗
С точки зрения коммунистической мифологии не только «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» (начало «Коммун. Манифеста»), но при этом «копошатся гады контрреволюции», «воют шакалы империализма», «оскаливает зубы гидра буржуазии», «зияют пастью финансовые акулы» и т. д. Тут же снуют такие фигуры, как «бандиты во фраках», «разбойники с моноклем», «венценосные кровопускатели», «людоеды в митрах», «рясофорные скулодробители». Кроме того, везде тут «темные силы», «мрачная реакция», «черная рать мракобесов»; и в этой тьме — «красная заря мирового пожара», «красное знамя восстаний». Картинка! И после этого говорят, что тут нет никакой мифологии.
Конечно, писать такое в 1930 году было вызовом, политической акцией, демонстрацией враждебности к властям, это преследовало цели, так сказать, вненаучные, к теме исследования прямо вроде бы не относящиеся: некий сверхпрограммный акт гражданского мужества. И в то же время, как мне кажется, в подобных выпадах и эскападах метод лосевского философствования, манера мыслить открываются даже более внятно, чем в его же «феноменологически-эйдетической диалектике». Я хочу сказать, что в эти темные методологии и углубляться особенно не надо для того, чтобы понять Лосева. Я попытаюсь сейчас объяснить философию Лосева своими словами, без эйдологии и диалектики; самое смешное, что это вполне возможно.
Лосев — эстет и стилист, даже стилизатор. Читая его, все время вспоминаешь одну статью Бердяева — об о. Павле Флоренском: «Стилизованное православие» — так называлась эта статья. А можно еще более доходчивую параллель обнаружить: Леонтьев, Константин Леонтьев — мыслитель, чья политическая консервативность, даже реакционность находила мотивировку и обоснование именно в эстетических установках его мысли. Эстетика была у Леонтьева своеобразной онтологией: он говорил о деспотизме формы, не дающем бытию разбегаться, разъезжаться, расползаться в кисель, распускаться в небытие. Само собой разумеется, что такой тип мысли характеризуется полным отсутствием какой-либо этики, не знает свободы: свобода у Леонтьева — псевдоним энтропии. Бытие подлинно лишь тогда, когда оно является в пластически выразительных формах, когда оно обладает стилем. Но это, собственно, и есть Лосев; все остальное у него — феноменология, эйдология и диалектика.
Приведу для сравнения одно характернейшее высказывание Леонтьева, много раз цитировавшееся его исследователями и комментаторами:
Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей входил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы индивидуально или коллективно на развалинах всего этого прошлого величия?..
Разве это не похоже — неразличимо похоже! — на лосевские рассуждения о том, что женщина с непокрытой головой и в короткой, по моде двадцать восьмого года, юбке не должна входить в православный храм? И ведь что тут самое важное? Такая, с позволения сказать, блудница вызывает у Лосева отнюдь не моральное негодование, а чисто эстетическое отталкивание, — но коли ситуация рассматривается в рамках исключительно православия. Та же женщина будет им приветствоваться, если речь зайдет, скажем, об эстетике Голливуда, Фицджеральде Скотте и «джазовом веке»: Лосев — достаточно тонкий эстет, чтобы понять право на существование любого стиля. Он знает, что Иродиада, пляшущая на пиру царя Ирода, эстетически выразительна не меньше, чем воспетая им на страницах «Диалектики мифа» православная девственница-монашка; а Иоанн Креститель в этом сюжете — фигура скорее маргинальная, нестилеобразующая: на его месте мог бы быть любой другой мужчина.
Чем Лосев действительно отличается от безответственного эстета Леонтьева, так это своими профессиональными знаниями: он специалист, тонкий знаток того, о чем берется говорить. Вот характерная деталь: Леонтьев в вышеприведенном отрывке говорит о «каком-то пернатом шлеме» Александра, а Лосев способен об этом шлеме написать монографию — столь же подробную, как Гомерово описание щита Ахиллеса.
Пластическая выразительность, смысловая выявленность, фигурность, как он любит говорить, стилистическая острота и единство, рельефность, скульптурность бытия — вот основные понятия, вернее основные интуиции мировоззрения Лосева. Эту максимальную стилистическую выявленность он и называет мифом. Смертный грех для него, для этой системы мировоззрения вообще — смешение стилей. Абрам Терц (Андрей Синявский), написавший статью о социалистическом реализме, выступил в ней нечаянным учеником Лосева: он писал там, что соцреализм у Маяковского, к примеру, был выразительно явленным стилем, характерная черта какового — монументальная плакатность; но последующее развитие эту стилистическую явленность ликвидировало, заменив ее эклектикой, в которую привнесли не идущие сюда черты психологического реализма в духе девятнадцатого века. Это смешение стилей — худшее, что может случиться с человеком и культурой: вот нерв философии Лосева. В «Диалектике мифа» есть у него забавнейшие страницы, где он обвиняет большевиков в буржуазности. Это надо процитировать, — такое не каждый день услышишь. Речь идет как раз об искусстве — стилистической парадигме любой культуры:
Мифология обязывает. Раз искусство, значит — гений. Раз гений, значит — неравенство. Раз неравенство, значит — эксплуатация. К чему же это ведет? Ведь мы же гоним попов за эксплуатацию, за то, что они, обладая большими знаниями и умея влиять на народ, подчиняют его своей власти, заставляя платить за те «утешения», которые он от них получает. Но разве не то же делает Шаляпин?.. Тут одно из двух: или эксплуатации никакой действительно не должно быть, тогда искусство должно быть искореняемо наравне с религией; или искусство нужно поощрять и тогда, во-первых, нужно допустить, что эксплуатация — необходима, что рабство — двигатель культуры, и, во-вторых, тогда совсем не очевидно, что должна быть искореняема религия. Конечно, эксплуатации не должно быть ни в каком случае, ни в целях искусства, ни в целях религии. Поэтому логический вывод из коммунизма — это искоренение также и искусства. Московский Большой театр — мощно организованный идеализм, живущий исключительно ради индивидуалистического превознесения и в целях эксплуатации. Нужно немедленно заставить всех этих «бывших артистов императорских театров» перейти на подлинно общественно полезный и производительный труд. Свободное искусство и наука есть всецело достояние либерально-буржуазной культуры. Феодализм и социализм вполне тождественны в том отношении, что оба они не допускают свободного искусства, но подчиняют его потребностям жизни, с тою разницей, что христианство понимает жизнь и «производство» как спасение в Боге, социализм же — как фабрично-заводскую производительность. Поэтому давно пора перестать нам культивировать у себя буржуазную и поповскую культуру искусству. Долой всех артистов, художников и писателей — угнетателей народа! Наша личность и наше мировоззрение должно дать свой миф. Развитой пролетарский миф не будет содержать в себе искусства.
Вот это и есть тот самый первозданный социалистический реализм, который имел в виду Синявский как эстетически оправданное явление. Лосев здесь говорит тоном, да и словами Маяковского, лефов. И это отнюдь не провокация Хулио Хуренито. Лосев больший большевик, чем Каганович, критиковавший его на XVI партсъезде. Самое же главное, что здесь необходимо понять, — все это говорилось не в порядке некоей тонкой провокации, не иронически, не шутейно: Лосев не красной тряпкой махал перед мордой большевицкого быка, а поднимал эту тряпку как знамя, как стилистический принцип. Он отнюдь не юродствовал. Это и есть исповедание его веры: стиль, стиль и еще раз стиль.