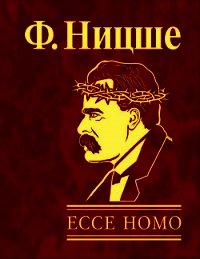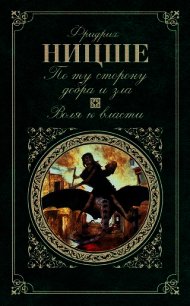Ecce liber. Опыт ницшеанской апологии - Орбел Николай (читаем книги бесплатно .txt) 📗
Откуда в нас этот интерпретаторский зуд? Его источник (как впрочем и корень бед человечества) Ницше видел в утрате природной спонтанности и замещении ее сознанием в том виде, в каком оно сложилось в осевую эпоху. Именно в эту эпоху индивид выделяется из рода, мифологически-целостное, аналоговое мышление замещается мышлением морально-логическим, специализированным. Человек ставится перед необходимостью толковать и давать оценку. Возникает феномен интерпретации — особый механизм, с помощью которого наше сознание приводит к своему собственному знаменателю всю получаемую информацию. Именно из-за того, что каждое сознание индивидуально, нам необходимо договориваться друг с другом, чтобы, согласованно взаимодействуя, выживать в реальном мире. Этот императив человеческого общежития прекрасно выразил Монтень: “Истолкование истолкований — дело более важное, нежели истолкование вещей”. Интерпретация образуется в зазоре и из-за зазора между индивидуальными сознаниями. Сознание и есть бесконечный набор интерпретаций и как таковое есть самоинтерпретация, порожденная, по Ницше ресентиментом рабов, которые ищут в объяснении и самообъяснении облегчения своих страданий.
Эта логико-интерпретационная опухоль разрастается до такой степени, что рассекает мир на собственно реальный мир и наше представление о нем. Оформили этот раскол Платон — первый дровосек человечества, получивший топор от Сократа, — и Христос, освятивший это удваивающее расщепление мира. Этот второй мир — мир наших представлений и согласований, протекающих в языковой форме, — неизбежно становится для нас более подлинным, чем реальный мир, от которого мы загородились экраном собственного сознания. Барьер, отъединяющий нас от подлинного мира, должен быть как можно более непреодолимым, чтобы минимизировать “шумы”, идущие от реального мира, которые могут мешать нам взаимодействовать друг с другом. В результате мы оказываемся отъединенными дважды: во-первых, от действительного мира, а во-вторых, — в силу наших индивидуальных различий — друг от друга. В итоге мы обречены на то, чтобы толковать мир и самих себя. Человека, следовательно, можно определить как животное, обучившееся толковать, а мир вокруг нас и между нами — как совокупность интерпретаций. Ницше первым понял это: “...Мы лишний раз убедились в “бесконечности” мира [обратите внимание на кавычки! — Н. О.], поскольку не сумели доказать невозможность того, что он заключает в себе бесконечное число интерпретаций” [93] В итоге получается, что “нет фактов, есть лишь интерпретации” [94] Ницше, по-видимому, первым почувствовал развернувшуюся со времен Платона деградацию философии в метафизический набор интерпретативных техник. Из упражнения в смерти, из способа противостоять отчаянию философия неотвратимо превращалась в навыки чтения и толкования философских текстов, в интерпретации интерпретаторов. Мы утратили способность прямого мышления, то есть чувственного понимания мира, научившись взамен толковать и перетолковывать. Интерпретационное же мышление является вторичным актом: мыслить, — замечает Ницше, — могут лишь отталкиваясь от мысли [95]
В конце концов всякая интерпретация оборачивается нанизыванием всего богатства мира на единый шампур, выбранный по вкусу интерпретатора. Поскольку существует бесконечное множество языков, то, интерпретируя, мы делаем не что иное, как на свой лад упорядочиваем чужое сознание, делаем его понятным, логически выстроенным для себя. “...Понять, — отмечает Ницше, — значит, с наивной точки зрения, только: иметь возможность выразить нечто новое на языке чего-то старого, знакомого” [96] Иными словами, интерпретировать — это “человеческий, слишком человеческий” способ присвоения чужой мысли. Это в сути своей сведение новых смыслов к старому, общепринятому смыслу. Это — стандартизация, в силу чего она противоположна творчеству. Но при этом, и здесь – парадокс феномена интерпретации, – коль скоро все интерпретаторы отличаются друг от друга, интерпретаций будет столько, сколько интерпретаторов. Некоторое единство интерпретаций возможно лишь в той мере, в какой интерпретаторы имеют сходство. Совершенно прав поэтому Г.-Г. Гадамер: всякий, кто вообще понимает, понимает иначе.
Ницше позиционирует себя в мировой философии как антагонист интерпретаторской традиции. Деррида указывает на “два способа истолковывать истолкование, структуру, знак и игру. Первое истолкование стремится и силится расшифровать некую истину, или начало, не подвластное ни игре, ни порядку знака, когда сама необходимость нечто истолковывать воспринимается как симптом изгнания. Второе истолкование, отвратившее свой взор от начала, утверждает игру и пытается встать по ту сторону человека и гуманизма... Это второе истолкование истолкования, идущее по путям, указанным нам Ницше...” [97] По сути оно уже не является собственно интерпретацией, ибо не стремится к установлению какой-то истины и затем сведению к ней всего многообразия творческого процесса (Впоследствии этот контринтерпретационный демарш назовут антифундационизмом).
Несомненным вкладом в развенчание интерпретаторского инстинкта явилось открытие перспективизма . Мы интерпретируем мир в соответствии не с уровнем нашего интеллекта, а с уровнем и качеством нашей воли. Иначе говоря, именно воля задает направление и качество (позитивные — негативные, глубокие — поверхностные) нашим интерпретациям. Фуко, следуя за Ницше, чрезвычайно тонко отмечает этот волевой момент интерпретации: “В интерпретации устанавливается скорее не отношение разъяснения, а отношение принуждения. Интерпретация не проясняет некий предмет, подлежащий интерпретированию и ей якобы пассивно отдающийся, — она может лишь насильственно овладеть уже имеющейся интерпретацией и должна ее ниспровергнуть, перевернуть, сокрушить ударом молота” [98] Вся “Воля к власти” и сопутствующий ей корпус текстов представляют собой сокрушительный удар по понятийному аппарату старой философии: материальное — идеальное, пространство — время, субъект — объект, истина — “псевдос”, форма — содержание, закон — случай, причина — следствие, вещественность — предикат, субстанция, познание, детерминизм, действие, идея, цель, бытие, дух, разум, душа, сознание, бессознательное... Ницше стремится разрушить всю “нашу метафизико-логическую догматику как в принципе иллюзорную”. Его сверхзадача как философа — взорвать “разумное мышление”, которое “есть интерпретирование по схеме, от которой мы не можем освободиться” [99]
Главное наступление он разворачивает против центрального понятия сократовско-логического мышления — истины. Со времен Сократа вся философия и — шире — все наше мышление держались только на авторитете и диктате Истины. Весь категориальный аппарат старой философии был изобретен для “ловли” истины. Сами эти категории, будучи продуктами воли к власти рабов (выразителями которых были Сократ и Христос), институционализировались в “метафизико-логическую догматику”, которая с тех пор и выдает себя за истину. Ницше буквально взрывает старую философию как совокупность жреческих процедур нахождения, установления и навязывания “Истины”, этого комплекса моральных приспособлений, производных от отношений господства-подчинения. Философ обнаруживает за каждой конкретной истиной конкретный тип власти. Она есть идеальный инструмент власти, осуществляющий контроль над человеком изнутри. “...Дело идет не о метафизических истинах, когда говорят о “субъекте”, “объекте”, “бытии”, “становлении”. Могучие, вот кто дал силу закона именам вещей, и среди могучих были те величайшие художники абстракции, которые создали категории” [100] Истин-интерпретаций столько, сколько воль к власти, и только та объявляется Истиной, чья воля к власти одерживает верх над другой волей. А поскольку жизнь — это непрестанная борьба различных воль к власти, то “истина” постоянно меняется. Она есть наше изобретение, помогающее нам выживать в этом мире и взаимодействовать друг с другом и меняющаяся всякий раз, когда верх одерживает новая, более могущественная воля к власти. Постоянно лишь наше “чувство истины”, которое Ницше называл одним из самых могучих «проявлений морального чувства».