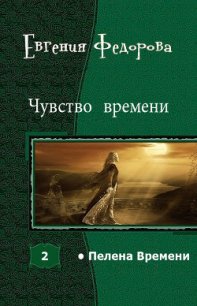Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (мир книг .TXT) 📗
Опять процитирую вам беднягу Мандельштама:
Иллюстрация неизменного топологического устройства нашей души. Помните, я говорил о совершенно других вещах и – о неизвестной родине. Сейчас вы видите – выскочило слово, вы думаете, что я цитировал, я не цитировал этого вовсе, просто перекрест символических соответствий одного и того же, а не моя, скажем, эрудиция, – что я знал Мандельштама и поэтому где-то затаился, сначала сказал «неизвестная родина», а потом привел с невинным видом стихотворение. Поверьте мне, что я этого не делал. Ну а если не поверите, ваше дело. Тогда, не поверив мне, вы чего-то не узнаете о самих себе и о том, как мы устроены… Итак, вдруг – «воспоминание тела о неизменной отчизне». Значит, та неизвестная родина, которая есть родина всякого художника, – или всякий художник есть гражданин неизвестной отчизны, – как раз еще и «неизменная». Есть воспоминание тела о неизменной отчизне. Это же и – «упоение жизни». Не Рим, а место человека, то есть не построенный алтарь, а ты на волне своего живого усилия держишь все. Все, что конкретно и выполнено, реализовано, – уходит, а ты вечен. Мы вернулись к прошлой теме: очень странная непрерывность, предполагающая вечное стояние. Некоторый вечный акт, в котором нет ничего выполненного. Потому что все выполненное может уйти, и уходит. Ну, скажем, греки гремели на всю вселенную, а где их империя? Где империя Александра Македонского? А Александр Македонский живет в нашей душе по одной простой причине – потому, что они держали человеческое усилие. Им не империи нужно было строить – они усилие человеческое держали. То же самое говорят мистики о вере: предмет истинной веры есть сама вера. Я ведь тавтологии определяю – вот сейчас я определил веру так же, как перед этим определил понимание. Я сказал, что понимание есть или его нет. У него нет причин. Оно само создает пространство мыслей. Понятно это? Так вот, я сказал, или мистик скажет (не конфессиональный человек, ходящий в церковь, а мистик, – это разные вещи), что предметом религии является сама вера, то есть держание веры, а не какие-нибудь объекты. Я то же самое могу сказать, по этой же структуре, о поэзии. И будет цитата из Пруста, она звучит так: «…поэзия состоит в чувстве своего собственного существования» [123]. Вдумайтесь: поэзия есть ощущение и чувство своего собственного существования. Это понятно? Я не надеюсь, что вы поймете, потому что такого рода объекты, совершенно независимо от наших способностей – в психологическом смысле слова (кто умнее или глупее), – предел того, что люди могут понимать. Предел философских и нравственных абстракций. Пруст этот опыт проделал, но проделал, в отличие от меня, пластично – есть сюжет, есть описания, и то, чего ему не удавалось достичь в слое понимания, он достигал в слое изображения. Например, можно проиграть битву мысли, но выиграть эстетическую битву. По ходу дела высечь какую-то красивую искру поэзии. У поэзии есть материя, материя остается, ну а мысль может не дойти до конца. Так вот, когда мы философствуем, а сейчас мы философствуем, у нас нет никаких орудий, нет никакой помощи, мы не можем спастись красивым словом – я не в уничижительном смысле говорю, – мы не можем на него опереться, потому что мысль нужно довести до конца. А ее до конца довести почти что невозможно. Я возвращаюсь к определению жизни: это есть чувство своего же собственного существования. То есть как бы предметом поэзии является поэзия. Странно. Но это и есть определение поэзии в человеке. Приведу вам теологическое определение. Скажем, есть что-то, имя чего и есть его существование. Мы ведь предметы обычно называем именами. А вот есть нечто, имя чего и есть его существование. Так, кстати, в теологии определялся Бог. Но обратите внимание, что поэзию я определил точно так же. По этой структуре. Я сказал: поэзия есть чувство (или поставьте – имя) – чего? – поэзии. И есть ее существование. Или – чувство поэзии есть чувство ее собственного существования. То есть мы имеем дело с какими-то особыми объектами. Это – условно назовем – бесконечные объекты. И с такими бесконечными объектами мы сталкиваемся даже в области понимания. Понимание есть бесконечный объект такого рода. Даже взаимное понимание. И то, что это так, имеет последствия для нашей жизни. Скажем, не понимая этого, мы бесконечно будем выяснять отношения. Вместо того, чтобы выпасть. Потому что отношения, если их нужно выяснять, выяснить нельзя. Это – закон.
В эти бесконечные объекты у нас включено «я». То есть стороной каждого из этих бесконечных объектов является «я». Оно неотделимо от этой бесконечности. Теперь нам интересно, что это за «я»? Сделаем один маленький шаг. Ясно, что это «я» имеет какое-то отношение к тому, что я называл точкой равноденствия, где, по Данте, сошлось тяготение всех грузов. Или сцепились все грузы. Нулевая, как я говорил вам, но в то же время интенсивная точка… На чем я хочу остановить ваше внимание? На том, что мы в действительности имеем дело с какой-то странной длительностью или непрерывностью, отличной от эмпирической длительности и непрерывности. Мы связываем эту странную непрерывность с «я», с каким-то «я» и с каким-то усилием. Вот тем, которым держится Рим. Рим сам исчезает, а усилие его держит, и есть предмет этой длительности или непрерывности. Также и в поэзии есть длительность самой поэзии. И усилие ее есть она сама. Есть что-то, имя чего и есть существование. И вот это существование есть какая-то странная непрерывность или длительность. И прежде чем привести довольно яркий символ (я вынужден его повторять, и это не случайно, потому что символы нельзя выдумывать; можно выдумать пример, а символ придумать нельзя, их приходится повторять), который, может быть, поставит многое на место в этой области, очень трудной, в которой мы движемся, я хочу– обратить ваше внимание на одну терминологическую вещь. Я говорил вам несколько раз, что жизнь можно определить как усилие во времени. Жизнь есть усилие во времени. Вот так, мимоходом. Пруст говорит: усилие во времени. И пока есть усилие, – например, пока есть люди, которые не могут жить, не будучи гражданами, – есть гражданский закон. То есть закон держится человеком, а не наоборот. Нельзя создать закон и потом прилечь на нем поспать. По закону, о котором мы говорили: потому что было в прошлом – не поэтому будет сегодня. Значит, мы имеем закон; как конкретное выполнение, как конкретная реализация он может уйти, но усилие должно длиться. А усилие длится в людях. В «я». И вот «я» – какое-то странное у нас. Назовем его пока «абсолютным». Я хочу терминологически обратить ваше внимание на то, что термин «время» во фразе: «Жизнь есть усилие во времени» – не имеет смысла времени нашей жизни. Так же, как он не имеет смысла наступающего в последовательности чего-то другого. Например, я могу сказать так: есть эта жизнь и есть другая жизнь, имея в виду, что в последовательности этой жизни наступает какой-то момент, после которого есть другая жизнь. Скажем, загробная, если она есть. (Одна из реальных проблем Пруста, он перечислял их: проблема реальности, проблема реальности произведения и проблема реальности души или бессмертия души. Единственные серьезные проблемы. Так считал Пруст.) Пока что я чисто терминологически останавливаю ваше внимание на том, что время не имеет смысла времени этой жизни. Точно так же, как не имеет смысла другого (что другая жизнь есть что-то, что наступает после этой жизни). Пруст говорит (в письме своему приятелю), что «реальная наша жизнь – это не та жизнь, которая в этой жизни, но и не та, которая после, а та, которая вне этой жизни. Если термин, заимствованный из пространственной терминологии, имеет какой-либо смысл в этой области» [124]. (Я это цитирую, чтобы остановить ваше внимание на том, чтобы вы не вкладывали каких-то смыслов в термин «время».)
123
См.:J.S. – p. 536.
124
См.: Mauriac Claude. Proust, p. 127, lettre a Gerorges de Lauris.