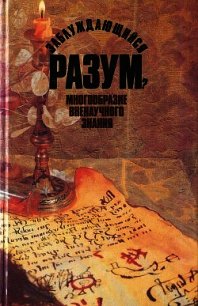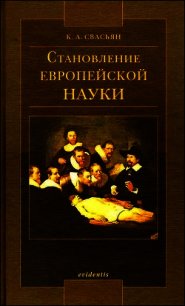Конец науки: Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки - Хорган Джон
Бесконечное должно включать конечное. Мы должны говорить: из бесконечного возникает конечное, в созидательном процессе это последовательно. Поэтому мы говорим, что независимо от того, как далеко мы заходим, существует безграничное. И как бы далеко ты ни заходил, кто-то всегда поднимет вопрос, на который придется искать ответ. И я не вижу, как когда-нибудь это удастся решить.
В этот момент, к моему облегчению, в комнату зашла жена Бома и спросила, не хотим ли мы еще чаю. Когда она наливала мне чай, я показал на книгу о тибетском мистицизме, стоявшую на полке за спиной Бома. Когда я спросил у Бома, повлияли ли на него такие произведения, он кивнул. Он был другом и учеником индийского мистика Кришнамурти, умершего в 1986 году. Кришнамурти был одним из первых современных индийских мудрецов, пытавшихся показать жителям западных стран, как достичь просветления. А сам Кришнамурти был просветлен?
— В некотором роде, да, — ответил Бом. — Его основным делом было полное погружение в мысль, чтобы добраться до ее конца, и тогда мысль станет другим видом сознания.
Конечно, никогда нельзя по-настоящему проникнуть в тайну собственного разума, сказал Бом. Любая попытка исследовать собственную мысль изменяет ее — точно так же, как измерение электрона меняет его курс. Конечное мистическое знание, казалось, намекал Бом, не более вероятно, чем окончательная теория физики.
— А Кришнамурти был счастливым человеком?
Казалось, мой вопрос удивил Бома.
— Трудно сказать, — наконец ответил он. — Временами он был несчастлив, но в общем и целом, я думаю, он был счастлив. Ведь дело не в счастье.
Бом нахмурился, словно поняв важность только что сказанного им.
В книге «Наука, порядок и созидательность» (Science, Order and Creativity), написанной в соавторстве с Ф. Дэвидом Питом (F. David Peat), Бом настаивал на важности «вносить элемент игры» и в науку, и в жизнь. Но сам Бом и в работах, и лично был кем угодно, только не шутником. Для него поиск истины не был игрой; это была ужасная, невозможная, но необходимая задача. Бом отчаянно хотел знать, открыть секрет всего или через физику, или через медитацию, или через мистические знания. И тем не менее он настаивал, что реальность непознаваема, — потому что, я считаю, он отвергал мысль о конечности. Он принимал, что любая истина, неважно, насколько чудесная изначально, в конце концов превращается в мертвый, застывший предмет, который не раскрывает абсолютное, а скрывает его. Бом жаждал не истины, а откровения, непрерывного откровения. В результате он был обречен на непрерывные сомнения.
В конце концов я распрощался с Бомом и его женой и вышел из дома. Моросил дождь. Я пошел по тропинке к улице и оглянулся назад, на дом Бома, скромный белый коттеджик на скромной улице с такими же коттеджиками. Бом умер от сердечного приступа два месяца спустя [72].
Мрачное пророчество Фейнмана
В книге «Характер физического закона» Ричард Фейнман (Richard Feynman, The Character of Physical Law), получивший в 1965 году Нобелевскую премию за создание квантовой версии электромагнетизма, дает довольно мрачное пророчество будущего физики: «Нам очень повезло жить в эпоху, когда мы всё еще делаем открытия. Это подобно открытию Америки — ее открываешь лишь однажды. Эпоха, в которую мы живем, — это эпоха, в которую мы открываем фундаментальные законы природы, и этот день никогда не повторится. Это очень возбуждает, это великолепно, но этому возбуждению придется уйти. Конечно, в будущем найдутся другие интересы. Будет интересовать соединение одного уровня явлений с другим — явлений в биологии и так далее, или, если говорить об исследовании, — исследования других планет, но того, что мы делаем сейчас, не будет».
После того как фундаментальные законы будут открыты, физики превратятся во второсортных мыслителей, то есть философов. «Философы, которые всегда находятся с наружной стороны и делают глупые замечания, будут способны подойти поближе, потому что мы не можем отогнать их, сказав: „Если бы вы были правы, то мы смогли бы найти все законы“, потому что когда все законы будут известны, они найдут объяснение и для них… Будет вырождение идей, подобное тому, что чувствуют великие исследователи, когда на новые территории начинают приезжать туристы».
Предвидение Фейнмана оказалось поразительным. Он ошибся только, думая, что пройдут тысячелетия, а не десятилетия перед тем, как философы наступят со всех сторон. Я увидел будущее физики в 1992 году, когда присутствовал на симпозиуме в Колумбийском университете, на котором философы и физики обсуждали значение квантовой механики. Симпозиум показал, что более чем через 60 лет после формулирования принципов квантовой механики ее смысл остался, мягко говоря, неуловимым. В лекциях можно было услышать эхо подхода Уилера («это из частицы»), и гипотезы пилотной волны Бома, и модели многих миров, предпочитаемой Стивеном Вайнбергом и другими. Но в основном каждый выступающий, казалось, пришел к личному пониманию квантовой механики, выраженному идиосинкразическим языком; казалось, никто не понимает, а не только не соглашается ни с кем другим. Пререкания вызвали в памяти слова Бора о квантовой механике: «Если вы думаете, что понимаете ее, это только показывает, что вы ничего про нее не знаете» [73].
Конечно, очевидный беспорядок мог возникнуть полностью из моего собственного незнания. Но когда я признался в своем ощущении запутанности и несоответствия одному из участников, он заверил меня, что мое восприятие правильное.
— Это черт знает что, — сказал он о конференции (подразумевая всю интерпретацию квантовой механики). Проблема, отметил он, возникла в основном потому, что различные интерпретации квантовой механики не могут быть эмпирически отделены одна от другой; философы и физики предпочитают одну интерпретацию, а не другую из эстетических и философских, то есть субъективных, причин.
И это судьба физики. Громадное большинство физиков, занятых в промышленности, и даже из научных кругов будут продолжать применять знания, которые у них уже есть, и изобретать более универсальные лазеры, сверхпроводники и компьютеры, не беспокоясь ни о каких лежащих в основе философских вопросах [74]. Несколько несгибаемых, преданных истине, станут практиковать физику неэмпирического, иронического типа, проникая в тайны магического косма суперструн и другой эзотерики, и беспокоиться о смысле квантовой механики. Конференции этих иронических физиков, чьи диспуты не могут быть экспериментально разрешены, станут все более и более напоминать споры Ассоциации современного языка, бастиона литературной критики.
Глава 4
Конец космологии
В 1990 году я отправился в одно уединенное курортное местечко в горах на севере Швеции, чтобы принять участие в симпозиуме под названием «Рождение и ранняя эволюция нашей Вселенной». Прибыв на место, я увидел около тридцати физиков, занимающихся физикой частиц, и астрономов со всего мира — из США, Европы, Советского Союза и Японии. Отчасти я приехал на симпозиум, чтобы встретиться со Стивеном Хокингом (Stephen Hawking), человеком, чей высокий интеллект в парализованном теле помог ему стать одним из самых известных ученых в мире.
Когда я встретил Хокинга, его состояние оказалось хуже, чем я ожидал. Он сидел в позе, напоминавшей позу эмбриона, опустив плечи, челюсть у него отвисла, голова клонилась в сторону, и выглядел он болезненно хрупким. Инвалидная коляска Хокинга была укомплектована множеством батареек и компьютеров. Насколько я мог судить, он был в состоянии двигать только указательным пальцем левой руки. С его помощью Хокинг трудолюбиво выбирал буквы, слова или предложения из меню на экране компьютера. Синтезатор голоса выдавал слова глубоким, повелительным тоном — как у киборга в фильме «Робокоп». Казалось, что Хокинга скорее забавляет, а вовсе не удручает его бедственное положение. Уголок его очень ярких губ, напоминающих губы Мика Джаггера, часто кривился в неком подобии ухмылки.