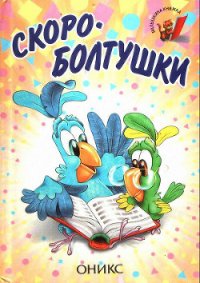Антиатеизм как замена антисемитизма в посткоммунистической России (СИ) - Сарапульцев Петр Алексеевич
Гораздо серьёзнее подходит к опасности атеизма Елена Ямпольская[6], твёрдо уверенная, что советская «страна рухнула, потому что десять заповедей, автоматом передранные в „Моральный кодекс строителя коммунизма“, без Бога не работают». И вообще «Страшно — когда ничего святого. „Православие головного мозга“ (копирайт Андрея Кончаловского) — недуг гораздо менее опасный, чем гнойный скепсис... При некрозе души надежды нет»[5].
Жаль, конечно, что автор не удосужилась ознакомиться, например с исследованиями гарвардского биолога Марка Хаузера, экспериментально доказавшего, что «нравственные решения основываются на универсальной нравственной грамматике — выработавшейся в течение миллионов лет способности разума, используя набор базовых принципов, строить на их основе ряд возможных моральных систем. Как и в случае с языком, составляющие нравственную грамматику принципы работают вне доступной нашему сознанию зоны»[8].
Тем более что сравнение ответов на поставленные моральные дилеммы атеистов и верующих показало, что в 97% случаев между ответами атеистов и верующих не существует статистически значимой разницы. А значит «нам не нужен бог, чтобы быть хорошими — или дурными»[9].
Но зачем антиатеистам доказательства, если всегда можно ссылаться на веру? «Способность верить — великая способность, даже если поначалу заблуждаешься в символе веры. Это не страшно — и Савл, будущий апостол Павел, заблуждался. Страшно — когда ничего святого»[6]. Понятно, что при такой системе «доказательств» любой диалог превращается в монолог, и у новоцерквлённых адептов православия остаётся только одно желание: добиться любой ценой «признание евреями», а в данном случае атеистами «своей ошибки, капитуляции перед христианской истиной и возможное в будущем массовое обращение» в православие всех атеистов. Вот он «образ окончательного триумфа христианства».
И если двух тысячелетняя борьба с еврейством закончилась для христианства полным крахом (евреи не только не перешли в новую веру, но ещё и создали своё государство, вырвавшись из положения всемирных изгоев), то у православия, казалось бы, появился повод для триумфа в отношении атеистов. Ибо неожиданно для всех становление новой России ознаменовалось резким всплеском религиозности среди бывших атеистов. Недаром на встрече с духовенством Днепропетровской епархии (24.07.10) Патриарх Кирилл подчеркнул, что за последние сто лет столь благоприятных условий для проповеди, как сейчас не было.
В чём тут дело? Казалось бы, распад социалистического государства и создание новой России должны были привести, наконец, к равенству всех воззрений, но «современность подразумевает новую роль идей — поскольку государство рассчитывает на их функциональную эффективность в деле идеологической мобилизации, по причине своей ярко выраженной тенденции к единообразию (проявляющейся в практике культурных крестовых походов) своей „цивилизационной“ миссии и отчётливого прозелитизма»[10].
А внезапное исчезновение пусть и не оправдавшей себя идеи построения всемирного царства равенства и счастья не могло не потребовать срочного нахождения новой государственной идеи. К несчастью низкий уровень историко-экономический подготовки большинства представителей новой правительственной верхушки общества (включая президента) и ярко выраженная ностальгия по имперскому величию привели к тому, что в качестве такой общегосударственной идеи для новой России была, пусть и не формально, признана идея православного христианства. Благо отличительной особенностью православной церкви было как раз то, что, осуществляя духовное наставничество, она всегда была поставщиком идей и формул политической лояльности.
В первую очередь помощь церкви понадобилась в отношении воспитания патриотизма. Ибо воспитание патриотизма, как показывает исторический опыт, жизненно необходимо при замене феодального строя буржуазным. Всегда, «когда династические ценности превращались в ценности национальных или националистических государств... патриотизм приходил на смену верности королю».
Воспитывать же патриотизм проще всего на конкретных примерах, взятых из революционного или военного прошлого. В новой России ссылки на Октябрьскую революцию, на примере которых семьдесят лет воспитывался патриотизм в советском государстве, стали невозможны, поскольку она в сознании многих стала восприниматься как вооружённый переворот, отбросивший развитие государства на десятки лет назад. Единственным выходом оставались поиски внешней опасности, ибо «война — царство неизбежности, вынужденного слияния со своими властями — против чужих; война исключает доверие и приучает существовать в кольце врагов»[11].
В отношении «кольца врагов» пропагандистам новой России, в общем-то, повезло, благо идея о патологической воинственности ведущих капиталистических государств внушалась её гражданам на протяжении всего существования Советской России. Вот почему «сегодняшнее российское общество живёт и мыслит в военной системе ценностей, опьяняется разговорами о внешних врагах, а главное не критично воспринимает власть, не видя никакой альтернативы ей; какая смена власти в военное время? В таких обстоятельствах даже просто ругать её — уже предательство... Как можно оспаривать саму идею защиты Отечества»[11].
Иногда даже начинает казаться, что в государственную политику возвращаются представления, типичные для холодной войны. Так на вопрос полтика, представляющего движение «Демократический выбор», Владимира Милова: «А почему для вас противник политический — это только либералы, демократы?», депутат Госдумы и лидер проправительственного движения «Россия молодая» Максим Мищенко ответил: «... я считаю, что самым серьёзным противником для нас являются те люди, за которыми стоит самое сильное государство в мире — США... потому что эти люди пришли для того, чтобы не построить нашу страну и сделать её успешной и богатой, а для того, чтобы разрушить её изнутри»[12].
Однако исчезновение «железного занавеса», позволившее свободно общаться с бывшими врагами, основательно подпортило представление о своей исключительности. И государству, предпочитающему интересы конкретного человека геополитическим интересам, было просто необходимо найти доказательство превосходства нашего Отечества над всем окружающим миром. Именно в этом вопросе идея православной исключительности оказалась как нельзя кстати: началась постепенная замена коммунистического патриотизма — патриотизмом православным.
И вот мы уже защищаем Сербию не потому, что уверены в её непогрешимости, а потому, что она также является православным государством. Более того, когда Владимир Мукусев попытался обратиться к правительству за помощью в поисках журналистов, погибших от рук сербских милиционеров, но «все мои попытки найти понимание у руководства страны... натыкались на главный вопрос: „Кто убил? Сербы? Забудь о своём расследовании. Это может повредить нашим интересам на Балканах“... Мало того, в некоторых изданиях появились статьи, содержание которых даёт мне основание думать, что авторы получали гонорары „за правильное освещение“ югославской темы не только в своих редакциях»[13].
Более того, член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко с солдатской прямотой официально заявляет: «Вера укрепляет моральный дух солдат, способствует нравственному очищению и делает мотивированным и осознанным выполнение воинского долга даже там, где есть риск погибнуть в бою»[14]. В принципе ничего нового в этих словах нет. Такие же религиозные мотивировки и осознания активно использовались ещё при крестовых походах и столетней войне. Жаль только, что опыт многовековой всемирной истории, доказавший кровавую бессмысленность религиозного патриотизма, остался «недоступным» для наших военных советчиков, наверное потому, что саму историю они представляют не мудрым учителем, а девушкой по вызову, обязанной исполнять любые желания.