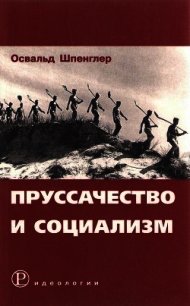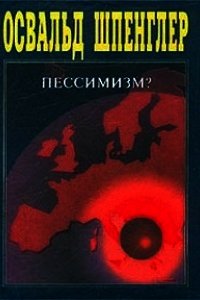Годы решений - Шпенглер Освальд (читать полностью книгу без регистрации .txt) 📗
Но Германия не остров. Никакая другая страна, действуя или претерпевая, не связана с судьбой мира в такой степени, как Германия. На это ее обрекает само географическое положение, недостаток естественных границ. В XVIII и XIX веке она была «Центральной Европой», в XX веке она вновь, как и после XIII века, стала страной, граничащей с «Азией», и никто не нуждается в преодолении политической и экономической ограниченности своего мышления так, как немцы. Все, что происходит вдали, отдается в глубине Германии.
Но наше прошлое мстит за эти 700 лет жалкой раздробленности на мелкие провинциальные государства без всякого следа величия, без идей и целей. Этого не восполнить за два поколения. Творение Бисмарка содержало в себе большую ошибку, ибо подрастающее поколение не было подготовлено к обстоятельствам новой формы нашей политической жизни. Их видели, но не понимали, не сумели осознать новые горизонты, проблемы и обязательства. С ними не жили. И средний немец по-прежнему смотрел на судьбу своей большой страны обособленно и ограниченно, то есть плоско, узко, тупо, из своего захолустья. Это местечковое мышление началось с того момента, когда императоры династии Штауфенов [11], с их интересами, простиравшимися за пределы средиземного моря, и Ганза [12], господствовавшая от Шельды до Новгорода, были вытеснены — вследствие недостатка реально-политической поддержки внутри страны — другими, и более основательно организованными державами. С тех пор люди заперлись в своих бесчисленных маленьких отчизнах и местечковых интересах, сопоставляли мировую историю со своим горизонтом и мечтали, голодая и влача жалкое существование, о какой-то заоблачной империи (Reich), что и получило название «немецкого идеализма». К подобному мелкому внутринемецкому мышлению относится почти все, что касается политических идеалов и утопий, взошедших в болотистой почве Веймарского государства, все интернационалистские, коммунистические, пацифистские, ульрамонтанские [13], федералистские и «арийские» фантазии о Sacrum Imperium, государстве Советов или Третьем Рейхе. Все партии полагают и поступают так, как если бы Германия была одна во всем мире. Профсоюзы не смотрят дальше промышленных районов. Колониальная политика была ненавистна им потому, что она не вписывалась в схему классовой борьбы. В своей доктринерской ограниченности они не понимают или не хотят понять то, что экономический империализм 1900-х был как раз предпосылкой существования рабочего, поскольку обеспечивал сбыт продукции и добычу сырья. Это уже давно стало ясно английскому рабочему. Немецкая демократия увлеклась пацифизмом и разоружением за пределами французского влияния. Федералисты хотели бы и без того маленькую страну превратить в связку карликовых государств старого образца, и тем самым дать возможность чуждым силам настраивать их друг против друга. И национал-социалисты надеются справиться без мира и вопреки миру и построить свои воздушные замки, не встретив, по меньшей мере, молчаливого, но очень чувствительного противодействия извне.
Глава 2
К этому прибавляется еще и всеобщий страх перед реальностью. Мы, «бледнолицые», все подвержены ему, хотя очень редко осознаем это, а большинство — никогда. Вот духовная слабость позднего человека высоких культур, отрезанного в своих городах от крестьянства материнской земли, и тем самым от естественного переживания судьбы, времени и смерти. Он стал слишком деятельным, привык к вечному размышлению о вчера и завтра и не переносит того, что видит и должен видеть: неумолимый ход вещей, бессмысленный случай, подлинную историю с ее безжалостными шагами через столетия, в которых отдельный человек со своей ничтожной частной жизнью неизбежно рождается в определенном месте. Это то, что он хотел бы забыть, опровергнуть и оспорить. Он ищет спасения от истории в одиночестве, вымышленных и чуждых миру системах, какой-нибудь вере, самоубийстве. Подобно гротескной птице, страусу, он прячет свою голову в надежды, идеалы и трусливый оптимизм: ситуация такова, но она не должна быть такой, то есть она не такова. Кто поет в лесу ночью, делает это из страха. Сегодня из-за такого же страха трусость городов покрикивает в мир свой мнимый оптимизм. Они больше не способны вынести реальность. На место фактов они помещают желаемую картину будущего (хотя история никогда не интересовалась желаниями людей) — от страны с молочными реками и кисельными берегами у маленьких детей до мира во всем мире и рабочего рая — у больших.
Насколько мало известно о событиях будущего — только общая форма будущих фактов и их движение во времени, которое можно вывести из сравнения с другими культурами, — настолько верно то, что движущие силы будут все те же, что и в прошлом: воля сильного, здоровый инстинкт, раса, воля к собственности и власти; а над этим бездейственно развеваются мечты, которые навсегда останутся мечтами: справедливость, счастье и мир.
Но с XVI века в нашей культуре к этому добавляется быстро растущая неспособность большинства разбираться во все более запутанных и непрозрачных событиях и ситуациях большой политики и экономики, постигать действующие в них силы и тенденции, не говоря уже о том, чтобы овладеть ими. Подлинные государственные мужи встречаются все реже. Большинство из того, что было сделано в течение этих веков, а не произошло само по себе, было сделано полузнайками и дилетантами, которым везло. Тем не менее, они могли опереться на народы, чей инстинкт предоставлял им свободу действий. Сегодня этот инстинкт настолько ослаб, а многословная критика самодовольных невежд стала такой сильной, что возрастает опасность того, что подлинный государственный муж, разбирающийся в вещах, не то что будет инстинктивно поддержан или хотя бы с ворчанием принят, но встретит сопротивление всех умников, которые будут мешать делать то, что необходимо. Первое мог испытывать Фридрих Великий [14], последнее чуть не стало судьбой Бисмарка. Величие и достижения таких вождей могут оценить только последующие поколения, да и то не всегда. Главное, чтобы в настоящем все ограничилось неблагодарностью и непониманием и не перешло к противодействию. Немцы большие мастера не доверять творческим начинаниям, придираться к ним из-за мелочей, срывать их. У них отсутствуют исторический опыт и сильные традиции, подобные тем, что присутствуют в жизни англичан. Народ поэтов и мыслителей превращается в народ болтунов и подстрекателей! Любой настоящий государственный руководитель непопулярен вследствие страха, трусости и незнания современников, но даже для понимания этого нужно быть чем-то большим, чем просто «идеалистом».
Сегодня мы живем в эпоху рационализма, которая началась в XVIII веке, в XX веке быстро подходит к своему завершению. Все мы являемся ее созданиями независимо от того, знаем и хотим ли этого или нет. Это выражение знакомо всем, но кто знает, что с ним связано? Это надменность городского, лишенного корней, более не движимого сильными инстинктами духа, который свысока смотрит на полнокровное мышление прошлого и на мудрость древних крестьянских родов. Это время, когда всякий может читать и писать, и потому хочет сказать свое слово, считая, что он все понимает лучше других. Этот дух одержим понятиями, этими новыми богами своего времени, и пытается критиковать мир: тот никуда не годится, мы можем сделать его лучше, так давайте сочиним программу лучшего мира! Нет ничего проще, когда у человека есть разум. Тогда она осуществится сама собой. Между тем, мы называем это «прогрессом человечества». Если что-то имеет название, значит, оно имеет место. Кто в этом сомневается, тот является ограниченным, реакционером и еретиком, по крайней мере, человеком без демократических добродетелей: убрать его с дороги! Так страх перед действительностью преодолевается духовным высокомерием, чванством — из-за сомнений во всех жизненных делах, духовной нищеты и недостатка почтения; наконец, из-за оторванной от жизни глупости, ибо нет ничего глупее лишенного корней городского рассудка. В английских конторах и клубах она называется common sense (здравый смысл), во французских салонах — esprit (дух, ум), в каморках немецких ученых — чистый разум. Плоский оптимизм филистеров от образования начинает уже не столько бояться элементарных фактов истории, а презирать их. Каждый всезнайка хочет встроить их и в свою чуждую опыту систему, сделать их понятийно более совершенными, чем они есть на самом деле, сделать их подвластными своему разуму, потому что он больше не пережинает их, а лишь познает.