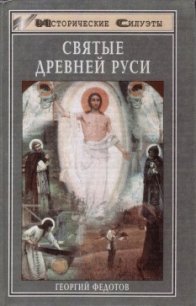Судьба и грехи России - Федотов Георгий Петрович (бесплатные книги полный формат txt) 📗
Декабристы были людьми XYIII века по всем своим
==83
политическим идеям, по своему социальному оптимизму, как и по форме военного заговора, в которую вылилась их революция. Целя пропасть отделяет их от будущих революционеров: они завершители старого века, не зачинатели нового. Вдумываясь в своеобразие их портретов в галерее русской революции, видишь, до чего они, по сравнению с будущим, еще почвенны. Как интеллигенция XYIII века, они тесно связаны со своим классом и с государством, Они живут полной жизнью: культурной, служебной, светской. Они гораздо почвеннее интеллигентов типа Радищева и Новикова, потому что прежде всего офицеры русской армии, люди службы и дела, нередко герои, обвеянные пороховым дымом двенадцатого года. Их либерализм, как никогда впоследствии, питается национальной идеей. В их лице сливаются две линии птенцов гнезда Петрова: воинов и просветителей. На них в последний раз в истории почил дух Петра.
Неудача их движения невольно преломляется в наших глазах его утопичностью. Это обман зрения. Ничто не доказывает, что либеральная дворянская власть была большей утопией для России, чем власть реакционно-дворянская. Не нам решать этот вопрос. Против обычного — и в революционных кругах — понимания говорит весь опыт XYIII века.
Крушение западнических идеалов заставляет монархию Николая I ощупью искать исторической почвы. Немецко-бюрократическая по своей природе, власть впервые чеканит формулу реакционного народничества: «православие, самодержавие и народность». Но дух, который вкладывается в эту формулу, менее всего народен. Православие в виде отмеренного компромисса между католичеством и протестантством, в полном неведении мистической традиции восточного христианства; самодержавие, понятое как европейский абсолютизм; народность как этнография, как московские вариации в холодном классицизме Тона, переживание Хераскова в Кукольнике: не вполне обрусевший немец на русской государственной службе, имя которому легион, именно так только и мог понимать Россию и ее национальную традицию.
Это был первый опыт реакционного народничества. С тех пор мы пережили еще русский стиль Александра III и православную романтику Николая II. Нельзя отрицать, что к ХХ веку познание России делает успехи, но вместе с тем глубокое падение культурного уровня дворца, спускающегося ниже помещичьего дома средней руки, делает невозможным возрождение национального стиля монархии.Она теряет всякое влияние на русское национальное творчество.
Однако нельзя забывать, что именно в николаевские го-
==84
ды в поместном и служилом дворянстве, как раз накануне его социального крушения, складывается до известной степени национальный быт. Уродливый галлицизм преодолевается со времени Отечественной войны, и дворянство ближе подходит к быту, языку, традициям крестьянства. Отсюда возможность подлинно национальной дворянской литературы, отсюда почвенность Аксакова, Лескова, Мельникова, Толстого... О, конечно, это почвенность относительная. Исключая Лескова, сознательная национальная традиция не восходит к допетровской Руси; но допетровский быт, в котором не живет народ, делается предметом пристального и любовного изучения. Иногда кажется, что барин и мужик снова начинают понимать друг друга. Но это самообман. Если барин может понять своего раба (Тургенев, Толстой), то раб ничего не понимает в быту и в миру господ. Да и барское понимание ограничено: видят быт, видят психологию, но того, что за бытом и психологией — тысячелетнюю традицию, религиозный мир крестьянства — «христианства» — еще не чувствуют.
Но не забудем — и это основной, глубокий фон, на котором развертывается новая русская история, — что существует Церковь, прочнее монархии и прочнее дворянской культуры, Церковь, связывающая в живом опыте молитвенного подвига десять столетий в одно, питающая народную стихию, поддерживающая холодно-покровительственное к ней государство, — и что Церковь именно в XIX веке обретает свой язык, начинает формулировать догмат и строй православия.
И вот среди этой общей тяги к почвенности, к возвращению на родину зарождается русская интеллигенция новой формации, предельно беспочвенная, отрешенная от действительности и зажигающая в катакомбах «кружков» свою неугасаемую лампаду. Она просто не заметила св.Серафима, она не принимает православия постных щей и «квасного» патриотизма. Ее историческая память, как и память царя, подавлена кровью мучеников: Радищевых, Рылеевых. Характерен самый уход из бюрократического Петербурга в опальную Москву, где в барских особняках Поварской и Арбата, вслед за фрондирующими вельможами XYIII века, появляются новые добровольные изгнанники: юные, даровитые, полные духовного горения, — но почти все обескровленные. С пламенностью религиозной веры, какой мы не видим у просветителей старого времени и в которой улавливаются отражения религиозной реакции Запада, юные философы утверждаются на Шеллинге, на Гегеле, как на камне вселенской Церкви; диалектически выводят из «идеи» весь мир данного и должного, «рефлектируют», созерцают, разлагают, — и все для того, чтобы в
==85
конечном счете связать себя новым моральным постулатом: найти внутренний подвиг, дать обеты, навсегда преодолевающие мир пошлой действительности. С этим миром интеллигенцию 30-х и 40-х годов связывает еще одна непорванная нить: культура класса, дворянский быт, в котором она живет, еще не рефлектируя над ним, ибо он сливается для нее, как и все конкретное, в голом понятии действительности. Идейность этих десятилетий не могла уже быть превзойдена: это эссенция абстрактной веры. Но на пути беспочвенности предстоял еще один тягчайший подвиг.
Каковы смысл и ценность этого идейного отшельничества? Когда власть отрекается от своей культурной миссии, интеллигенция возжигает очаг чистой мысли. Именно в эти годы она осваивает самые глубокие и сложные явления европейской культуры; место поверхностного «просвещения» прошлого века занимает немецкая философия и гуманистическая наука. Этим заканчивается европеизация России, начавшаяся с париков и бритых бород и завоевывающая теперь последние твердыни разума. Здесь, в 30-е и 40-е годы, рождается русская наука — прежде всего историческая и филологическая, — которая к концу века импонирует и Западу. Только здесь дано культурное завершение дела Петра и вместе с тем достигнут предел законной европеизации. Дальнейшее западничество русской интеллигентской мысли будет бесплодным и косным твержением задов.
От Шеллинга и Германии к России и православию — таков «царский путь» русской мысли. Если он оказался узкой заросшей тропинкой, виной был политический вывих русской жизни. Бурное разложение дворянской России требовало творческого руководства власти. Монархия, поглощенная идеей самосохранения, становится тормозом, и политически активные силы, которые некогда окружали Петра, теперь готовятся к борьбе с династией. А в этой борьбе славянофилы не вожди и не попутчики. Их мир действительности, по которому они тоскуют, — в романтическом прошлом, в Руси небывалой; от России реальной их отделяет анархическое неприятие государства. В этом их право на место в истории русской интеллигенции. Но поскольку они находят или осмысливают для себя Церковь, они приобретают, в свернутом состоянии, всю Россию, прошлую и настоящую, — ту, которая уже уходит, но не ту, что рождается в грозе и буре. Утверждаясь на ней, они уходят от русской интеллигенции, которая, однако, любовно хранит память о них, почитая своим за общие радения в катакомбах, за отрешенность идейного подвига, хотя он и выводит их из подземелий на бытовую русскую почву.