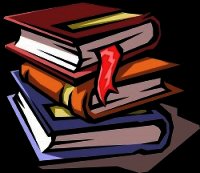Конец стиля (сборник) - Парамонов Борис Михайлович (библиотека электронных книг txt) 📗
Автор французской книги о Вуди Аллене Робер Бенаюн дает иную трактовку тому же «Зелигу». Это фильм о судьбе художника в мире стандартизованного успеха; Зелиг — аллегория художника, которому навязывают «имидж», а он этому стандарту бросает вызов. Множественная личность героя и есть этот вызов: художник не желает эксплуатировать однажды приключившийся успех, он хочет меняться, жить собственным интересом, подчиняясь собственной судьбе, творя эту судьбу самостоятельно. Это остроумная трактовка, но все-таки в феномене Зелига мы вправе усматривать и еще кое-что. Уж очень буквально следует кинорежиссер Вуди Аллен линии своего героя. Не Вуди Аллен-художник, а скорее Вуди Аллен-человек тут вспоминается. Я, таким образом, перехожу на личности: какая же без этого психология? А без психологии как разобраться в делах человеческих?
Дело в том, что Вуди Аллен действительно меняется; но меняет он — не себя, а образцы для подражания. Его можно было бы назвать самым настоящим эпигоном и именно с этим биографическим обстоятельством связать его внеличностное измерение — его еврейство. Шкловский сказал: «я полуеврей и имитатор»; тут была высказана некая философема. Вспомним хотя бы Эренбурга, самого о себе сказавшего: «я часто обезьянничал». Но Вуди Аллен, кажется, сумел все-таки эту слабость сделать силой, перевести неумение в прием: осознав самую тему еврейского имитаторства. «Зелиг» — фильм не о художнике и не о забавном психопате, — а о еврее. И Вуди Аллен мог бы задать вопрос Аллану Блуму: зачем еврею имитировать викторианского джентльмена, когда он может имитировать — кого угодно?
«Зелиг» — фильм о роковой судьбе еврейства, обреченного жить в чужих культурах, это метафора еврейского рассеяния, иронический гимн диаспоре, выработанной в изгнании способности быть более русскими, чем русские (Пастернак), и более итальянцами, чем итальянцы (Альберто Моравиа!)
Блум рассказывает, как однажды ехал в такси и водитель поведал ему, что он сидел в тюрьме, откуда вышел новым человеком. На ноги его поставили психологи, применявшие к нему разнообразные модные новинки: и глубинную психологию Юнга, и «трансакциональный анализ» (?), но помогла ему гештальт-психология. Высокомудрая терминология сливок западноевропейской культуры, пишет Блум, стала в Америке расхожей, как чуингам. Раньше бы такой человек сказал, что он спас свою душу, изгнав дьявола и обретя Бога; сегодня он обретает «себя», свое self.
Вот это и есть, если угодно, притча о Вуди Аллене. Он пародирует эту культурную ситуацию. Ибо если «в себе» нет «себя», нет искомого self, то и надо обезьянничать, прикидываясь кем угодно. Робер Бенаюн назвал Вуди Аллена «культурным хамелеоном»; но если это так (а это так), то зачем говорить о «Зелиге» как о сопротивлении художника? Сопротивление Вуди Аллена — сопротивление еврея: мимикрия культурной среды. Просто в современном мире, лишенном органического культурного наполнения, еврей более чем когда и где-либо стал «всечеловеком» (роль, в которой Достоевский хотел видеть русских). И за неимением собственного лица у современников — подражают великим образцам прошлого, всяческой классике. Это назвали постмодернизмом.
Посмотрите на фильмы Вуди Аллена: это каталог заимствований. Феллини? — «Stardust Memories» и «В те дни, когда играло радио» (соответственно «Восемь с половиной» и «Амаркорд»). Бергман? — «В интерьере», «Другая женщина», «Секс-комедия летней ночи» (название последней наводит на Шекспира, но это помимо прочего подражание бергмановским «Улыбкам летней ночи»). Чехов? Пожалуйста — «Сентябрь»: некий дайджест сразу всех чеховских пьес; «Ханна и ее сестры» — туда же (сестер, натурально, три).
Вуди Аллен и начинал как невзыскательный пародист. Первая его пьеса, из которой позднее сделали фильм, где он только играл главную роль, но режиссером не был, — «Сыграй это снова, Сэм»: некий слабак примеряет мужественный имидж Хэмфри Боггарта; название пьесы — знаменитая реплика из «Касабланки». Он и дальше шел этим путем, пародируя уже не актеров (актер Вуди Аллен, кстати сказать, весьма посредственный), а целые жанры, даже культурные ситуации. Постепенно он понял, в чем его сила: не в актерстве, а в общей культурности, в «начитанности». Этапным мне кажется фильм «Любовь и смерть», в котором спародированы сразу два знаменитых русских романа: «Война и мир» и «Преступление и наказание». Внешний, визуальный ряд фильма был все того же невысокого качества: если вы оденете маленького, носатого, очкастого еврея в мундир русской армии эпохи наполеоновских войн — то уже вроде бы смешно, без дальнейших уточнений. Но «уточнения» были как раз очень интересными: ну, скажем, в Наташе Ростовой Вуди Аллен увидел и выявил проститутку. А как интересно была сделана сцена покушения героя («Пьера Безухова», по признаку очкастости) на великого императора: вот сюда-то Вуди Аллен и пристегнул «Преступление и наказание» (но и мотив самой «Войны и мира» присутствовал: намерение Пьера свести счеты с Наполеоном); юмор становился уже тонким, когда «тварь дрожащая» (произносившая все приличествующие случаю раскольниковские слова) посягала именно на «Наполеона» (заваливающего в это время «Наташу Ростову»).
Собственные (несмотря на многочисленные киноцитаты), вне пародии сделанные вещи Вуди Аллена — «Энни Холл» и «Манхэттен». Тут он играл себя — нью-йоркского невротического интеллигента, жизни не мыслящего без психоанализа (разговор с любимой девушкой: «мой аналист говорит, что секс для меня — субститут негативного отношения к окружающим. А что говорит ваш аналист?»). Это приятные фильмы, они не раздражают даже самый тонкий вкус, — прежде всего потому, что, сыграв самого себя, Вуди Аллен сумел прикрыть свою актерскую посредственность. Ему фатально не идет грим, любое перевоплощение: таковые еще острее обнажают собственный облик актера, создавая, правда, комический эффект, но очень невысокого сорта. Но разве искусство — это только вкус? И сколько можно играть себя — когда сила Вуди Аллена, как нам объяснил вышеозначенный француз, в том, чтобы быть собой — собой не будучи (иначе зачем тогда актерство, вообще игра, искусство?) И Вуди Аллен, сообразив все эти обстоятельства, сделал по-настоящему хороший фильм — «Преступления и проступки». Прием здесь был такой: оставаясь собой (нью-йоркским интеллигентным невротиком), поставить себя в ситуацию, искусственно сконструированную в поле культурных ассоциаций; синтез автобиографии и пародии, то есть обеих прежних манер, принесших — каждая — успех.
Соответственно, в фильме две сюжетные линии. Одна пародирует все то же «Преступление и наказание»: богатый врач спешно убивает опостылевшую любовницу. В сущности, это даже не пародия, а цитата из Камю («Счастливая смерть»), в свое время спародировавшего знаменитый сюжет под влиянием, надо думать, своего любимого Шестова: тот писал, что Раскольников, в отличие от Макбета, — не на высоте своего преступления, это человек, не имеющий права на собственную судьбу. В переводе на повседневность: можно убить и благополучно дожить жизнь, если полиция не поймала. Вторая линия — чисто вудиалленовская, рассказ о злоключениях неудачливого телережиссера, которого он сам играет. Видимая несвязанность двух линий, озадачившая зрителей, увязывается, по-моему, следующим образом. У героя-телевизионщика есть родственник, тоже телевизионщик, но преуспевший и богатый. Вуди Аллен делает фильм о нем, и в одной сцене придумывает очень забавный монтаж, перебивая кадры интервью с героем TV хроникальными кадрами выступления Муссолини. Эта остроумная находка, натурально, ссорит его со знаменитым и фанфаронистым родственником, и фильм на экраны не выходит. Мораль: не всякого Муссолини вешают вниз головой; это и есть связь двух сюжетных линий. Получается, что Вуди Аллен сделал фильм не о враче-убийце, а об артисте, которому мешает его собственная эрудиция, — то есть о себе, но на этот раз особенно изобретательно. Тавро неудачника здесь иронично, ибо сам-то Вуди Аллен человек всячески преуспевший; иронизирует он — над современной культурной ситуацией, не оставляющей художнику ничего, кроме многоэтажных пародий.