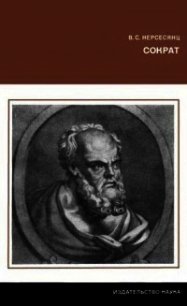Сократ - Кессиди Феохарий Харлампиевич (полные книги .txt) 📗
164
и общим, то отсюда следует, что сущность представляет собой единое во многом, постоянное в изменяющемся, тождественное в различном.
В диалоге Платона "Гиппий Больший", как и в уже известном нам его диалоге «Лахес», представлен один из примеров понимания Сократом "сущности вещи". Сократ спрашивает софиста Гиппия, что такое прекрасное. Гиппий, не поняв вопроса, отвечает: прекрасное — это прекрасная девушка. Возражая от имени какого-то собеседника, с которым будто бы недавно вел беседу о прекрасном, Сократ говорит Гиппию: "Однако смотри, дорогой мой, он ведь тебя спрашивает не о том, что прекрасно, а о том, что такое прекрасное" (Гиппий Больший, 287 е). Иными словами, ошибочность ответа Гиппия Сократ видит в том, что тот, вместо определения прекрасного, вместо установления сущности, общей для всех частных случаев проявления прекрасного, указал на единичный пример прекрасного, на одно из обнаружений сущности исследуемого предмета. Далее, серией наводящих вопросов Сократ приводит Гиппия к мысли о необходимости различать сущность от ее проявлений, общее от частного, единое от многого. Это различение и позволяет говорить о сущности рассматриваемого предмета, как о его «логосе» (смысле), как о его eidos'e мыслимом «образе», представляемой «идее». Поэтому смысл сократовского вопроса о прекрасном сводится к вопросу о том, что такое "прекрасное само по себе, благодаря которому все остальное украшается и представляется прекрасным", что такое «идея» прекрасного, которая, присоединяясь к чему-либо, делает этот предмет или живое существо прекрасным (см. там же, 289 d). Догадавшись, наконец, о чем идет речь, Гиппий отвечает Сократу: "Мне кажется, ты добиваешься, чтобы тебе
165
назвали такое прекрасное, которое нигде никогда никому не покажется безобразным" (там же, 291 d).
В "Гиппии Большем", как и в ряде других «сократовских» диалогов Платона, попытка определения понятия (в данном случае понятия прекрасного) оканчивается неопределенностью вывода. Впрочем, следует оговориться, что платоновский Сократ дает если не прямое, то, по крайней мере, косвенное определение прекрасного. Оно, прекрасное, есть eidos (образец, модель, смысл, идея), который, приобщаясь к предметам, делает их прекрасными. Не трудно также заметить, что от сократовского поиска "прекрасного самого по себе" ("мужества самого по себе", "справедливости самой по себе" и т. п.) всего лишь шаг до теории идей Платона и его понимания роли понятийно-категориального мышления в теоретическом познании. Это вытекает также из того, что при определении понятия Сократ делает упор на единстве, тождестве и родовой общности рассматриваемого многообразия видов «мужества», "благоразумия", «прекрасного». Однако он не доходит до мысли о том, что, говоря словами В. Ф. Асмуса, "задача определения понятия состоит в уяснении не просто родового единства, а единства противоположностей между родовой общностью и видовыми особенностями" (2, 155). Словом, стремясь к определению понятия, Сократ подчас резко противопоставлял сущность явлениям, родовую общность — видовым отличиям. Так, например, он настаивал на том, что признак мужества "оставаться на своем посту и сражаться с врагом" ("Лахес") не является определением мужества (так как имеется много других поступков, не сходных с названным, но не менее мужественных). Аналогично с этим Сократ считал, что "преследование преступника, обличенного в убийстве,
166
святотатстве и в других подобных делах" (Платон. Евтифон, 5 d) не есть еще определение благочестия.
Требование Сократа, чтобы определение было определением "сущности вещи", верно, но обнаруживаемая при этом тенденция исключать из «сущности» частные формы ее проявления приводила к большим затруднениям, не позволявшим установить, что же такое рассматриваемое понятие, каков его предмет (содержание). Столкнувшись с трудностью нахождения чистых определений ("мужество само по себе", "справедливость сама по себе") и вместе с тем с необходимостью установления предмета рассматриваемого понятия, Сократ в одних случаях откладывал обсуждение вопроса до "следующего раза", в других — ограничивался косвенным ответом на вопрос о предмете исследуемого понятия. Такой косвенный ответ дается в ранее упомянутом диалоге "Гиппий Больший", а также в диалоге Платона «Хармид». В последнем, убедившись, что все попытки определить благоразумие не удались, Сократ решается на иносказательное определение этого понятия, которое, собственно говоря, оказывается не столько определением, сколько рассказом о некоем сне, подсказавшем ему, что самое главное и решающее для человека это знание о добре и зле, умение отличать одно от другого. Это знание является, согласно Сократу, руководящим принципом в жизни, в поведении и воспитании. И никакое другое знание, кроме знания добра и зла, не может стать источником той гармонии душевных сил и нравственной деятельности, которая доставляет нам истинное блаженство и делает нас добродетельными и хорошими (kaloka-gathia).
Обращает на себя внимание еще одна своеобразная черта метода Сократа и всего его учения. В сократовской
167
диалектике безуспешность попыток определения этических понятий сочетается с уверенностью в принципиальной возможности нахождения «всеобщего» в нравственности, достижимости всеобщей нравственной основы отдельных, частных добродетелей. Складывается впечатление, что эта уверенность покоится в свою очередь на убеждении в том, что каждый человек так или иначе владеет «всеобщим».
Свою задачу Сократ видел в том, чтобы «навести» собеседника на путь раскрытия содержания тех понятий, которыми штадеет определяющий, но настолько смутно, что он не в состоянии дать им точное и всеохватывающее определение. Сделать это оказывается, впрочем, не под силу и Сократу. «Наведение» или «приведение» по-гречески обозначается термином epagoge. Это и есть «индукция» Сократа, его "индуктивные рассуждения".
Б. Индукция
"Индукция" Сократа — это то же, что и его «определение», с той лишь разницей, что индукция устанавливает общее в частных добродетелях, путем их анализа и сравнения, а определение, решая ту же задачу, разделяет, кроме того, понятия на роды и виды, выясняет их соотношения.
Индукцией как методом восхождения от единичных примеров к общим определениям Сократ пользовался часто, причем настолько часто, что некоторые из его современников видели в этом забаву, считая примеры, к которым он обращался, недостойными внимания философа, чрезмерно банальными и не относящимися к существу дела. Так, Калликл в диалоге Платона «Горгий»
168
(491 а) с ноткой досады говорит Сократу: "Клянусь богами, без умолку, без передышки ты толкуешь о поварах и лекарях, о башмачниках и сукновалах как будто про них идет у нас беседа!" Аналогичен и рассказ Ксенофонта о Сократе (см. «Воспоминания», I, 2, 31–37). Согласно его сообщению, Критий, возглавлявший "Тиранию тридцати", запретил Сократу вести беседы с молодыми людьми в Афинах. Узнав об этом запрете, Сократ попросил Крития и его соратника Харикла дать ему точные указания относительно следующего: приказывают ли они ему воздержаться от "искусства слова", — потому, что оно, по их мнению, помогает говорить правильно или неправильно? Ведь, если — говорить правильно, то, очевидно, пришлось бы воздержаться говорить правильно; если же — говорить неправильно, то, очевидно, надо стараться говорить правильно. Рассердившись, Харикл сказал: "Когда, Сократ, ты этого не знаешь, то мы объявляем тебе вот что, для тебя более понятное, — чтобы с молодыми людьми ты вовсе не разговаривал". Тогда Сократ, прикидываясь простодушным, спросил: а до скольких лет должно считать людей «молодыми»? Харикл ответил: до тех пор, пока им не дозволяется быть членами Совета пятисот (т. е. до 30 лет). Но, допустим, — продолжал Сократ задавать вопросы, — что человек моложе тридцати лет продает что-нибудь нужное мне. Могу ли я узнать у него, за сколько он продает? Или, предположим, если меня спросит молодой человек о чем-нибудь мне известном, например, где живет Харикл или находится Критий. Могу ли я ответить? Да, сказал Харикл. Но тут вмешался в разговор Критий и добавил: "Нет, тебе придется, Сократ, отказаться от этих сапожников, плотников, кузнецов: думаю, они совсем истрепались оттого, что вечно они у