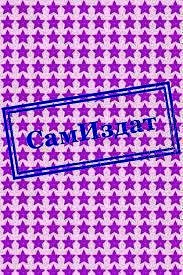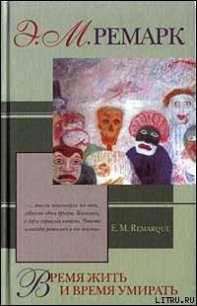С нами Бог - Франк Семен (читаем книги бесплатно .txt) 📗
Самое яркое и парадоксальное выражение этой своеобразной христианской установки, постоянно забываемое или ложно истолковываемое популярным сознанием, состоит в указании, что кающийся грешник ценнее праведника, что «на небесах больше радости об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках». Невольно задаешься вопросом: почему? Можно представить себе – и так это обычно и представляется себе, – что кающийся грешник заслуживает снисхождения или даже полного прощения, но тогда он в лучшем случае только уподобляется праведнику, никогда не грешившему, или скорее по своей ценности только приближается к нему. Но почему он встречается еще с большей радостью или любовью, чем праведник? Тексты Евангелия не оставляют здесь ни малейшего сомнения. Дело в том, что основное отношение Бога к людям есть отношение не суда, а любви; поэтому грех рассматривается не как вина и преступление, не как нарушение объективной нормы или ценности добра, а как опасность, как болезнь, угрожающая человеку гибелью. Любовь же пропорциональна не заслугам любимого, а его нужде или же опасности его потерять. Несчастному дается, естественно, больше любви, чем счастливому, потому что он в ней больше нуждается, и пастуху одна заблудшая овца, которую он рискует потерять, дороже всего стада, и отцу, казалось, потерянного, но вернувшегося блудного сына этот сын дороже того, который всегда оставался и работал в его доме. Так христианство дает религиозное оправдание тому интимному, таимому в глубине и обычно не высказываемому отношению человеческой души к морали, которое состоит в том, что моральные правила и оценки, при всей их необходимости и святости, не дают полного удовлетворения ее нуждам и влечениям; человеческая душа ведает некое благо или томится по некому благу, высшему, чем моральное добро: это есть благо, спасающее душу. Мерило истинной ценности человеческой личности, мерило ее полноты, глубины и годности состоит все же не в степени ее подчиненности, послушного выполнения моральных требований, а в силе и остроте ее влечения к этому высшему абсолютному благу.
Во всех этических религиях степень моральной доброкачественности человека определяет степень его близости к Богу, его оценку перед лицом Бога. В христианстве, как религии личности, имеет место – парадоксальным образом – обратное соотношение: степень близости человека к Богу, интенсивность его влечения, его тяга к Богу, одна определяет истинную годность и доброкачественность человека. Покаяние грешника, сознание им своей греховности, осуждение им себя самого не есть здесь просто показатель его доброй нравственной воли, в силу которой ему даруется прощение. Оно есть показатель и выражение его реальной тяги к Богу, сознание им нужды в спасении; в этом смысле сознание своего несовершенства, своей греховности, своей удаленности от Бога есть прямо условие – или обратная сторона – этой тяги души к Богу. Эту тягу к Богу или, по крайней мере, эту напряженность тяги к Богу не может испытать человек, не имеющий острого сознания своей греховности. И, с другой стороны, эта тяга есть единственное условие, при котором Бог и хочет и может спасти человека. Отсюда – парадоксальное предпочтение, которое Христос дает отверженным и грешникам – мытарям и блудницам, – перед «фарисеями» (что, как известно, значило «чистые», т. е. предполагало сознание собственной чистоты). Указание Христа, что «не здоровые нуждаются во враче, а больные», еще не сполна обосновывает это парадоксальное предпочтение, и скорее должно пониматься как ирония. Дело обстоит здесь, по существу, так, что сознающие себя морально здоровыми духовно безнадежно больны и неизлечимы, а больные, жаждущие выздоровления, самой этой жаждой обнаруживают, что они здоровее морально здоровых.
Я думаю, что в остром и ясном понимании этого – выходящего за пределы моральной установки и в этом смысле парадоксального – существа христианского отношения между Богом и человеком заключается подлинная правда интуиции, внезапно озарившей Лютера (в так наз. «Turmerlebnis») и выраженной им в догмате спасения единой верой (sola fides). Лютер уловил в основной мысли апостола Павла о спасении в приводимых им словах пророка Аввакума «праведный верою жив будет» то специфически христианское понимание, по которому «вера» – живая связь человека с Богом, его живая тяга к Богу, – а отнюдь не нравственные заслуги и достижения определяет подлинную, именно религиозную ценность человека и тем самым открывает реальную возможность «спасения», т. е. причастия благодатным силам. Живое чувство связи души с Богом, предстояния перед лицом Божиим есть совершенно особое, именно религиозное начало человеческой жизни, по существу независимое от морального, оно, и только оно одно, имеет решающее значение в религиозной жизни, в христианском сознании его достаточно, чтобы тем самым испытать свою упокоенность во всепрощающей любви Божией, радостно идущей навстречу каждой, ее ищущей человеческой душе – свою «спасенность», и, напротив, в этой задаче спасения сознание своих собственных заслуг не помощь, а помеха, так как оно имеет склонность ослабить упование на единоспасающую любовь Божию и влечение к ней. Эту глубокую и верную интуицию Лютер облек в неуклюжую, искажающую истинное существо дела богословскую формулу, юридический характер которой прямо противоречит подлинному христианскому сознанию: он выразил ее, как известно, в учении, что грешник, по праву обреченный на осуждение, получает перед судом Божиим прощение, как бы «амнистию», в силу акта веры заслуживая распространение на него искупляющей силы подвига Христова. Эта грубая и замысловатая юридическая конструкция – вытекающая из общего «юридического» представления о Боге как грозном судье, блюдущем карающую справедливость, и о человеке как трепещущем преступнике – совершенно неадекватна несказанной простоте духовной свободы и радости той истинной христианской правды, интуиция которой озарила сознание Лютера и которую, скованный мрачными средневековыми представлениями, он не в состоянии был точно выразить. Отношение между человеком и Богом не имеет ничего общего с отношением подсудимого к грозному судье, и притом в процессе, в котором подсудимый, сознавая свою виновность и потому неизбежность обвинительного приговора, неожиданно, как бы чудом, выходит из этого безнадежного положения, заслуживая себе амнистию признанием своей духовной солидарности с подвигом Христа. Радостная, освобождающая любовная правда христианского сознания выражена здесь в доктрине, носящей печать рабского, унизительного и потому противохристианского понимания отношения между человеком и Богом. Спасение, обретаемое через веру, есть не «амнистия» на судебном процессе, не «justificatio externa», которая, не очищая от греха, только освобождает от кары за него, оно есть прямое исцеление, внутреннее облагодатствование и очищение души, и сама вера есть здесь не акт интеллектуального признания истины доктрины об искуплении, а простое, живое, сердечное восприятие связи души с Богом, опыт Божией любви к человеку и ее внутреннее возрождающей и спасающей силы. Богу достаточно простой тяги человеческой души к Нему, чтобы спасти ее; если человек влечется к Богу, то он для Бога уже не грешник, а больной, ищущий исцеления и потому и получающий его; а вне этой тяги к Богу Бог просто не может исцелить человека, как врач не может исцелить больного, который не отдается в его руки. И поэтому человеку достаточно испытать эту тягу, чтобы как бы в то же мгновение изведать, несмотря на сознание своей греховности, спасительную силу Божией любви. В этом смысле спасение действительно дается «одной только вере».
Таково парадоксальное, освобождающее и дарующее несказанную радость христианское сознание примата религиозного начала над моральным. Христианство есть религия человечности. В ней человек впервые обретает утешающее убеждение, что Бог, верховная инстанция бытия, имеет в конечном счете только один интерес – конкретную человеческую нужду – и одну только заботу – помочь человеку. В практике христианской мысли и оценки люди, конечно, постоянно соскальзывали с этой прекрасной головокружительной высоты в низины обыденного морализма и обычного (и практически, т. е. дисциплинарно-педагогически, конечно, совершенно необходимого) отождествления морального добра с высшим и абсолютным благом. Это не препятствует тому, что христианство в своем истинном существе, в качестве религии человеческой личности, возвышается над уровнем моральных категорий – конечно, не отвергая и не отрицая их, но ставя их на надлежащее, подчиненное место средств, а не целей. Можно сказать, что христианство есть единственная правомерная и ценная установка, при которой человек сознает последнюю, абсолютную правду «по ту сторону добра и зла». Оно смело утверждает истину, что «не человек для субботы, а суббота для человека», что благо, спасение человеческой личности выше, ценнее всех отвлеченных моральных ценностей. Эта истина христианства как религии не суда, а спасения – спасения для всех, кто его напряженно ищет и в нем нуждается, – или как религии не морали, а человеческой личности менее всего была усвоена, легче всего оттеснялась на задний план, забывалась и искажалась в историческом христианском сознании.