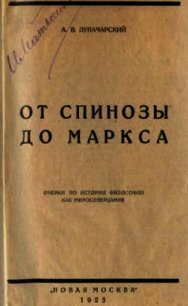За Маркса - Альтюссер Луи (прочитать книгу TXT) 📗
Более того, между этими двумя временами или двумя пространствами не существует никакого явно выраженного отношения. Персонажи первого времени — словно чужие для персонажей времени — молнии: они всякий раз удаляются, давая им место (краткий ураган драмы словно сметает их со сцены!), чтобы затем, в следующем действии, когда исчезает этот чуждый их ритму момент, вернуться, изменив свой облик. Именно благодаря углублению скрытого смысла этой диссоциации мы можем приблизиться ко внутреннему ядру пьесы. Поскольку зритель реально переживает это углубление, переходя между первым и третьим действиями от сдержанного замешательства к удивлению, а затем — к полному согласию. И я всего лишь пытаюсь помыслить это переживаемое углубление, чтобы явно выразить этот скрытый смысл, воздействующий на зрителя против его воли. Но наиболее важный вопрос заключается в следующем: каким образом становится возможным, что эта диссоциация является столь выразительной? И что она выражает? В чем заключается это отсутствие отношений, намекающее на существование отношения скрытого, обосновывающего и оправдывающего его? Как возможно сосуществование этих двух форм темпоральности, на первый взгляд столь чуждых друг другу, но в то же время объединенных переживаемым отношением?
Ответ заключается в следующем парадоксе: именно отсутствие отношений конституирует подлинное отношение. Именно благодаря тому, что пьесе удается изобразить и заставить зрителя пережить это отсутствие отношений, она достигает своего изначального смысла. Говоря короче, я не считаю, что мы имеем дело с мелодрамой, развертывающейся на фоне хроники народной жизни Милана в 1890 г. Мы имеем дело с мелодраматическим сознанием, подвергаемым критике со стороны некоего существования: существования миланского люмпен — пролетариата в 1890 г. Без этого существования мы бы не знали, о каком мелодраматическом со — знании идет речь; без этой критики мелодраматического сознания мы бы не смогли понять скрытую драму существования миланского люмпен — пролетариата: его бессилие. Что означает эта хроника нищенского существования, составляющая существенное содержание трех действий? Почему время этой хроники — это вереница совершенно типичных, анонимных и взаимозаменяемых существ? Почему это время едва намеченных встреч, обменов репликами, начинающихся споров — это именно пустое время? Почему по мере того, как от первого действия мы переходим ко второму, а от него — к третьему, это время становится все более безмолвным и неподвижным? (В первом действии на сцене все еще присутствует видимость какой — то жизни и движения; во втором все уже сидят, и некоторые не произносят ни слова; в третьем действии пожилые женщины, сидящие у стены, словно срастаются с нею.) Для чего все эти элементы постановки — если не для того, чтобы указать на действительное содержание этого нищенского времени: времени, в котором ничего не происходит, времени без надежды и без будущего, времени, в котором даже прошлое застыло в повторении (старый гарибальдиец), в котором будущее едва заметно в неуверенных и неумелых разговорах о политике, которые ведут каменщики, строящие фабрику, времени, в котором жесты словно повисают в воздухе, лишенные следствий и порождаемых ими эффектов, в котором все сводится к нескольким жестам на самом дне жизни, «повседневной жизни», к спорам, которые заканчиваются, едва успев начаться, которые сознание их тщетности заставляет возвратиться в ничто [69], — короче говоря, времени остановленного, в котором еще не происходит ничего, напоминающего историю, времени пустого и переживаемого как пустое: времени самого их положения.
В этой связи я бы не смог назвать ничего столь же замечательного, как мизансцена второго действия, поскольку она дает нам именно непосредственное восприятие этого времени. В первом действии еще можно было думать, что смутный задний план, изображающий Тиволи, всего лишь соответствовал беззаботности безработных или рассеянности тех, кто приходит сюда, чтобы завершить день прогулкой среди иллюзий и приковывающих к себе внимание огней. Во втором действии уже невозможно сомневаться в том, что пустой и замкнутый куб этой столовой для неимущих есть наглядное изображение самого времени этих людей. У основания гигантской, почти до самого потолка потемневшей от времени стены, покрытой полустершимися, но все еще различимыми административными предписаниями, мы видим два огромных, длинных стола, расположенных параллельно к рампе, один на переднем плане, другой на заднем; за ними, почти вплотную к стене — горизонтальная железная штанга, ограничивающая доступ к столовой. У правого края сцены находится высокая, перпендикулярная к линии столов ширма, отделяющая зал от кухни. Два раздаточных окошка, один для супа, другой для алкогольных напитков. За ширмой — кухня, утопающая в клубах пара, котлы и невозмутимый повар. Это огромное, обнаженное поле параллельных столов, этот фон бесконечной стены образуют собой место, отмеченное совершенно невыносимыми строгостью и пустотой. За столами, здесь и там, сидят несколько человек. Они обращены к нам лицом или спиной. Они говорят, не меняя своего положения. Они словно исчезают в этом чрезмерно большом пространстве, которое они никогда не смогут собой заполнить. Здесь будут происходить их смехотворные взаимодействия, но даже если они покинут свое место и попытаются завязать контакт с тем или иным собеседником, который поверх столов и скамей бросает ждущую ответа реплику, они все же никогда не избавятся ни от этих столов, ни от этих скамей, навсегда отделивших их от них самих, подчинивших их неизменному и безмолвному порядку. Это пространство и есть само время их жизни. Один здесь, другой там. Стрелер развел их по местам. Они останутся там, где были. Они едят, прекращают есть и вновь принимаются за еду. Так сами жесты приобретают свой полный смысл. Вот персонаж, которого мы видим в начале сцены, он обращен к нам лицом, но оно едва заметно за краем тарелки, которую он держит обеими руками. Сколько времени ему требуется для того, чтобы наполнить свою ложку, нескончаемым жестом поднести ее ко рту, затем поднять немного повыше, чтобы убедиться, что ничего не пролито, и наконец отправить ее в рот, который, прежде чем проглотить полученное, еще какое — то время контролирует эту порцию, измеряет ее объем. Мы замечаем, что другие, сидящие к нам спиной персонажи совершают те же самые жесты: вот высоко поднятый локоть, заставляющий корпус застыть в положении неравновесия — мы видим, как они едят, с отсутствующим видом, подобно всем другим отсутствующим, которые и в Милане, и во всех больших городах мира совершают все те же священные жесты, потому что в них — вся их жизнь, и нет ничего, что позволило бы им прожить их время иначе. (Спешат только каменщики, поскольку ритм их жизни и их работы задает сирена.) Кому еще удалось с такой силой в самой структуре пространства, в распределении мест и актеров, в длительности элементарных жестов выразить глубинное отношение людей к переживаемому ими времени?
Но наиболее существенный момент заключается в следующем: темпоральной структуре «хроники» противостоит другая темпоральная структура, структура «драмы». Поскольку время драмы (Нина) — это время наполненное: это «драматическое» время словно вспышками молнии отмечено несколькими узловыми событиями. Это время, в котором отсутствие истории невозможно. Это время, которое приводится в движение изнутри, некой неудержимой силой, и которое само производит свое собственное содержание. Это время, являющееся диалектическим по преимуществу. Время, которое отменяет как само другое время, так и структуры его пространственного выражения. Когда люди покидают столовую и в ней остаются только Нина, отец и Торгассо, что — то внезапно исчезает: сотрапезники словно забирают с собой все декорации (гениальная догадка Стрелера: решение свести воедино два различных действия, которые, таким образом, разыгрываются на фоне одних и тех же декораций), и даже само пространство стен и столов, сами логику и смысл этих мест; словно конфликт сам по себе способен заменить это видимое и пустое пространство другим, невидимым и плотным, необратимым, имеющим одно — единственное измерение, которое ускоряет движение пьесы, заставляя ее превратиться в драму, более того, не может не ускорить это движение, если вообще должна появиться подлинная драма. Именно эта оппозиция придает пьесе Бертолацци ее глубину. С одной стороны, недиалектическое время, в котором ничего не происходит, время, лишенное внутренней необходимости, провоцирующей действие, развитие; с другой — диалектическое время (время конфликта), которое его внутреннее противоречие вынуждает порождать его собственное становление и его результат. Парадокс «El Nost Milan» заключается в том, что диалектика разыгрывается здесь, так сказать, на краях, ее тезисы — это реплики «в сторону» (a la cantonade), на краю сцены и в самом конце действия: если мы сами с таким нетерпением ждем появления этой диалектики (без которой, по — видимому, не может обойтись ни одно театральное представление), то для персонажей она совершенно безразлична. Она никогда не спешит и появляется лишь в самом конце, сначала в сумерках, когда в воздухе вот — вот появятся знаменитые совы, затем далеко за полдень, когда солнце уже начинает садиться, и наконец, вместе с первыми лучами утренней зари. Эта диалектика каждый раз появляется только после того, как все покинули сцену.