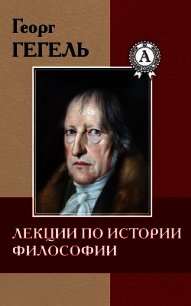Язык философии - Бибихин Владимир Вениаминович (читать бесплатно полные книги .TXT) 📗
В слове Гераклита, помимо того, что оно наверное и образ и символ, мы слышим еще и другое. Размах этого слова так велик, что оно начинает говорить о том, чего мы не можем познать и в чем только и можем узнать себя. Что такое это «от всего отстраненное», до которого добирается размах философского слова? Мы говорили (§ 11), что гераклитовское «надо следовать всеобщему» — императив, обращенный безусловно к каждому. Говорить, чт онадо делать тогда‑то, в таких‑то условиях и с такой‑то целью, — дело науки; философия велит то, чт онеотменимо во всяком здесь и теперь. Не «знай то или это» (например греческий язык), а «узнай себя», т. е. увидь себя в другом. Я настоящий и есть я сам, осуществившийся, но это значит, что я настоящий — другой самому себе.
Что же получается? Мы с таким недоверием говорили о символе, а ведь его структура и есть узнавание. Мы собирались отказаться в философии от символа и вернулись к нему?
Только к нему какому? Девушка кивает на розу, роза — на девушку, но ведь девушка похожа на розу, роза на девушку. Они похожие символы. Вместе с тем девушка и явно другое чем роза. Тогда что такое символ: то, что указывает на то же? то, что указывает на другое? указывает на похожесть в другом? Мы словно прикованы к пониманию символа как указания на похожее другое, т. е. такое другое, которое в нашей власти приручить, ввести в доступный образ, в «перспективу смысла». Может ли символ указывать на совершенно другое, т. е. сообщать, что то, на что он указывает, совсем не похоже на него?
В своем исходном бытовом и в своем первом философском понимании символ вовсе не предполагал, что указанное им должно быть на него похоже. Картинка ряда уходящих или уводящих в бесконечную даль явлений, сводящихся к одному образу, в раннем символе отсутствовала. Эта картинка принадлежит разоблачительному редукционизму XIX и XX вв. с его настойчивым намерением подыскать один ключ к разным вещам, поднять как можно большее их число одним ухватом. Символ в первоначальном значении — это как попало, намерено небрежно обломленная половина черепка, которая остается при мне, а другую я отдаю партнеру. Она уходит куда‑то так, что я не могу уследить. Тот, с кем я вступил в σύμβολον, договор, может свою половину передать другому. Моя половинка — знак и напоминание, что затеяно и не окончено какое‑то дело. Что половинки разломлены и раздельно существуют, ожидая быть сложенными вместе, — указание, напоминание, что дело надо доделать. Символ у меня в руках — способ знания, что здесь дело не кончается, ждет завершения. Здесь нет мысли о похожести. Скорее даже наоборот, рисунок другой половины разломанного черепка диаметрально противоположен рисунку моей половины.
Указание на недостающее — вот символ в исходном понимании. Уподобительного символа классическая философия в строгом смысле не знает. Отвергая символ как помеху для мысли, Гегель спорит не с исходным символом в трезвом смысле указания на другое–недостающее, а с туманным представлением о символе как о чем‑то таком, что неким «глубинным смыслом» образует манящую смысловую связь. Представление о похожести символа и символизируемого должно было возникнуть, когда ослабла готовность к узнаванию себя в безусловно другом, притупился вкус к неожиданности, появилось желание смягчить встречу с неизвестным, вообразить другое похожим, а то и тем же самым, что мы имеем в нашем «символическом образе», во всяком случае — в том же «смысловом ряду». Желание сгладить неожиданность встречи с безусловно другим, в конечном счете усталая неохота узнавать себя в непохожем привходят в позднюю трактовку символа, случайны для его исходного смысла. Представление символа как содержащего подобие тому, на что он указывает, мешает мысли, по Гегелю. Но оно мешает и символу.
Символ в исконном значении кажется неинтересным, если увлекаться размазыванием сочных уподоблений всего всему, но в нем есть блестящая простота, которая выше и труднее чем всевозможная изобразительность. У Аристотеля символ не изображает символизируемое, а наоборот, он, как правило, другое ему. Дружба не обязательно должна быть между похожими: непохожие стремятся друг к другу как противоположные, как «два символа», т. е. две половины целого, «ради добра», ради полноты целого (Этика Евдемова VII 5, 1239 b 31). Мужское и женское — символы друг друга, потому что противоположны и потому что только вместе составят целое (О рождении животных I 18, 722 b 11). Среди примеров дружбы противоположных, которые сходятся как два других друг другу, как два символа, у Аристотеля пример мужчины и женщины.
К этой отчетливой простоте в понимании символа мы выбираемся из всего, что о нем наговорено за последние два века, как из болота на сухой пригорок.
Классическое понимание символа настолько далеко от нас, что важнейшее место аристотелевской теории языка, формулу «то, что в звуке, — символы состояний, которые в душе» (τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα, Об истолковании I 16 а 4), мы неспособны даже прочесть. Считается, что слово σύμβολον еще не приобрело здесь «развитого» и «содержательного» философского значения и применено пока просто в смысле «знак». Соответственно это место и переводят: «Итак, то, что в звукосочетаниях, — это знаки представлений в душе». Аристотель, надеемся мы, оказывая ему честь, говорит то же самое, что современная научная лингвистика, разве что без должной терминологической проработки, поэтому приходится немного подправить его: вместо наивного «звука» говорить научно корректное «звукосочетание»; ввести ради полноты картины отсутствующее у Аристотеля «представление». Мы готовы простить древнему философу мелкие неточности, хваля его за то, что он по крайней мере уже сумел понять знаковую природу языка. Вопрос теперь для нас, на чьей стороне он стоял, — с платоновским Гермогеном (знаки произвольно установлены) или с Кратилом (знаки естественны). Разумеется, мы не можем поверить, чтобы на такой ранней стадии философского развития Аристотелю удалось бы уже и разрешить этот спор.
Однако Аристотель не по небрежности говорит в приведенном выше определении языка: «символы», когда мог бы сказать и «знаки». Современный перевод неверен. Правда, и перевод «символы» нам ничего бы не дал из‑за отличия аристотелевского символа от нашего.
Мало помогло бы и объяснение, что символ у Аристотеля неподобен символизируемому, неполон без него и только вместе с ним составляет целое. Потребовалось бы сказать, что целое тут не сумма частей, а «то, ради чего» и каждой части в отдельности, и их соединения. Ради целого как цели «то, что в звуке» и движение души ищут друг друга. «То, что в звуке» не «звукосочетание», а всё, что мы слышим или не слышим в слове, от музыки и звукоподражания до смысла. Слово несет на себе многое.
Аристотель не спрашивает, почему звук — весть и почему человек способен ее слышать. Что φωνή всегда значимо, что слово требует отклика и получает его, что всё звучащее — весть, не человеком устроено и не может быть отменено человеком. Аристотель думает о том, что задевает нас. Между вестью и движением души символическое отношение, т. е. обоим не хватает друг друга. Они должны восполнить взаимную нехватку, соединиться в целом. То, ради чего обе половины, слово–весть и движение души, уже не язык и не речь. Цель осуществляется через них, оправдывая как себя, так и их тем, что она «хороша».
Нам трудно принять различение, до противоположности, между тем, что несет в себе слово, и тем, как на него отвечает душа. Мы расположены упрощать, считая, что значение, коль скоро оно воспринято, отлагается в душе более или менее адекватным представлением. Для Аристотеля весть — одно, отвечающее ей движение души — может быть совсем другое, на весть непохожее; и оба возникают только в свете целого, которое определяется не как сумма частей, а как цель стремления.
Античный символ указывает на проблему и остается ее узлом. Современный символ, настраивая ожидать и усматривать подобия и сходства, служит инструментом для снятия проблем, для налаживания связей даже там, где их не следовало бы подчеркивать. Процитируем Алексея Федоровича Лосева: «Символ это субстанциальное объединение идеального и реального. Это сама вещь, в ее сути»; «Символ является такой оригинальной и вполне самостоятельной идейно–образной конструкцией, которая обладает огромной смысловой силой, насыщенностью, вернее же сказать, смысловой заряженностью или творческой мощью и общностью, чтобы без всякого буквального или переносного изображения определенных моментов действительности в свернутом виде создавать перспективу для их продолжительного или даже бесконечного развития, уже в развернутом виде или в виде отдельных единичностей». Перед таким символом ничто не устоит. Он повсюду проникнет, перед ним всё сникнет, он подойдет ключом ко всему. Что ему недоступно прямо, он достанет обходным путем. «Символ […] модель бесконечных порождений, субстанциально тождественных с самой моделью».