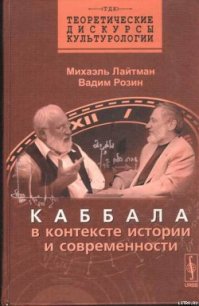Семиотические исследования - Розин Вадим Маркович (читаем книги TXT) 📗
Еще один признак схем: как правило, они могут стать объектами оперирования, в том смысле что схемы имеют определенное строение, их можно анализировать, на основе одних схем можно создавать другие и т. п.
Следующая важнейшая особенность схем – они являются самостоятельными предметами, что осознается даже в этимологии этого термина (от греческого scema – наружный вид, форма). Предложим следующее рабочее определение схемы: схема – это самостоятельный предмет, выступающий одновременно как представление (или изображение) другого предмета. Понятно, что схема может быть использована и в функции модели (как известно, модель – это объект, употребляемый вместо другого объекта), но схема все же не совпадает с моделью. Для схемы существенна именно предметность: схема и сама является предметом, и представляет другой предмет; это, так сказать, предмет в квадрате. В качестве первого предмета (корня) схема выступает как источник знаний, в качестве второго (самого квадрата) позволяет переносить знания с одного предмета на другой.
Может возникнуть вопрос о том, как формируются схемы. Некоторый свет в этом отношении может пролить реконструкция формирования одной из самых первых нарративных схем – представления о душе. Нетрудно вообразить одну из возможных психологических предпосылок изобретения представления об архаической душе. Ею, например, могло быть наблюдение за птицами, вылетающими из своих гнезд и возвращающимися назад. Кстати, образ души-птицы (наряду с душой-бабочкой, душой-тенью) является достаточно распространенным в архаическом мире. Формирование представления о теле как доме (гнезде) для души – естественное следствие принятия идеи души-птицы. Труднее объяснить, как данный птичий образ души был открыт человеком. Думаю, тут сыграли свою роль несколько моментов: языковые игры-отождествления, в которых (естественно, без всяких на то оснований) человек назывался птицей, воображение, идущее вслед за речью, сновидения, где языковые отождествления могли воплотиться в реальные визуальные образы «человека-птицы», попытки слушателей понять реальность, о которой шла речь. Но вернемся к схемам Платона и Галилея. Имеет смысл рассмотреть тот способ, на основе которого Платон получает на схемах новые знания. Рассмотрим для этого историю (рассуждение) об андрогинах.
Сначала рассказывается сама история, а именно то, как Зевс рассек андрогины пополам. Затем половинки андрогинов отождествляются с мужчинами и женщинами. Наконец, влюбленным мужчинам и женщинам приписывается стремление к поиску своей половины, поскольку их происхождение от андрогинов требует воссоединения целого. Кант тотчас же уцепился бы, например, за категории «часть – целое», «любовь» и «пол», чтобы сказать, что это априорные начала, применение которых к реальным объектам (людям) и потребовало схемы андрогина. Платон рассуждал бы иначе: с помощью «правдоподобной» истории об андрогине душа вспоминает совершенную идею любви, которая создана творцом. А я, естественно, вижу в рассуждении героя диалога свое. Откуда, спрашивается, Платон извлекает новое знание о любви? Он не может изучать (созерцать) объект, ведь платонической любви в культуре еще не было, а обычное понимание любви было прямо противоположно платоновскому. Платон утверждал, что любовь – это забота о себе каждого отдельного человека, а народное понимание языком мифа гласило, что любовь от человека не зависит (она возникает, когда Эрот поражает человека своей золотой стрелой); Платон приписывает любви разумное начало, а мифология – только страсть; Платон рассматривает любовь как духовное занятие, а народ – преимущественно как телесное и т. п. Новое знание Платон получает именно из схемы, очевидно, он ее так и создает, чтобы получить такое знание. Но относит Платон это знание, предварительно модифицировав его (здесь и потребовалось отождествление), не к схеме, а к объекту рассуждения, в данном случае – к любви. Возникает вопрос: на каких основаниях, ведь объекта еще нет? Платон бы возразил: как это – нет объекта, а идея любви, ее творец создал одновременно с Космосом и душа созерцала совершенную любовь, когда пребывала в божественном мире.
Но я не Платон и должен повторить: к моменту создания «Пира» платонической любви еще не было. Следовательно, я могу предположить лишь одно: Платон полагает (современный инженер сказал бы – проектирует) новое представление о любви, и именно для этого ему нужна схема. Она задает, а не описывает новый объект; полученные на схеме знания приписываются этому объекту, конституируя его. То же самое можно утверждать и относительно других платоновских схем. Рассмотрим теперь второй пример – схемы в «Беседах» Галилея.
Исследования В. Зубова показывают, что в основании всех поисков Галилея, позволивших ему получить новые знания о движении (свободном падении тела), лежит заимствованная им у средневекового логика Николая Орема «схема треугольника скоростей». В этой схеме один катет прямоугольного треугольника изображает пройденное время, а другой – максимальную скорость, достигнутую при свободном падении тела (прямые внутри треугольника, параллельные этой максимальной скорости, – это мгновенные скорости в определенный момент времени падения). На оремовской схеме Галилей получает исходное знание, – о том, что скорость падающего тела увеличивается равномерно, – которое он кладет в основание всех дальнейших доказательств. [5] Далее, отталкиваясь от той же схемы, Галилей получает еще два знания: что все тела должны падать с одинаковой скоростью независимо от их веса и что вес тела расходуется не на поддержание движения, а только на его приращение (Аристотель утверждал обратное: что скорость падения прямо пропорциональна весу падающего тела и что для поддержания равномерного движения тела необходимо постоянно прикладывать определенную силу). Наконец, еще одно знание («Если тело, выйдя из состояния покоя, падает равномерно ускоренно, то расстояния, проходимые им за определенные промежутки времени, относятся между собой как квадраты времени») Галилей получает, доказывая геометрическим путем равенство треугольника скоростей «прямоугольнику скоростей», т. е. равенство равноускоренного движения равномерному движению со средней скоростью падения (см.: 23, с. 311–315). Рассмотрим теперь способ получения данных знаний.
Первое исходное знание Галилей получает примерно так же, как Платон. Он доказывает, что предположение о равномерном приращении скорости падающего тела является наиболее естественным и соответствующим природе изучаемого явления. Другими словами, схема треугольника скоростей построена так, чтобы приписать падающему телу данное соотношение.
По-другому получаются второе и третье знания. Почему, рассуждает Галилей (смотри нашу реконструкцию (см.: 62)), нельзя считать, что вес тела тратится на поддержание его постоянной скорости? А потому, что в этом случае нельзя объяснить ускорение тела при падении, ведь тогда пришлось бы считать, что по мере падения и вес тела постоянно возрастает. Почему все тела падают с одинаковой скоростью независимо от их веса? А потому, что в треугольник скоростей входят только два параметра – скорость тела и пройденное время, а параметр веса не входит, следовательно, от веса тела скорость не зависит. Как мы видим, новые знания здесь получаются не прямо из оремовской схемы, но в связи с ней. В данном случае схема помогает организовать соответствующие рассуждения.
Наконец, четвертое знание получается при отождествлении оремовской схемы с определенной геометрической фигурой. На основе полученного в геометрии знания о равенстве фигур далее создается новое знание о свободном падении, т. е. новое знание здесь создается в два этапа: сначала в геометрии, затем в механике, но и там и там объекты задаются с помощью схемы треугольника скоростей.
Если Платон в обосновании своих знаний апеллирует к идеям, то Галилей – к устройству природы как «написанной на языке математики». В частности, в «Диалоге о двух главнейших системах мира» Галилей пишет: «Но если человеческое понимание рассматривается интенсивно и коль скоро под интенсивностью разумеют совершенное понимание некоторых суждений, то я говорю, что человеческий интеллект действительно понимает некоторые из этих суждений совершенно и что в них он приобретает ту же степень достоверности, какую имеет сама Природа. К этим суждениям принадлежат только математические науки, а именно геометрия и арифметика, в которых божественный интеллект действительно знает бесконечное число суждений, поскольку он знает все. И что касается того немногого, что действительно понимает человеческий интеллект, то я считаю, что это знание равно божественному в его объективной достоверности, поскольку здесь человеку удается понять необходимость, выше которой не может быть никакой более высокой достоверности» (24, с. 89).